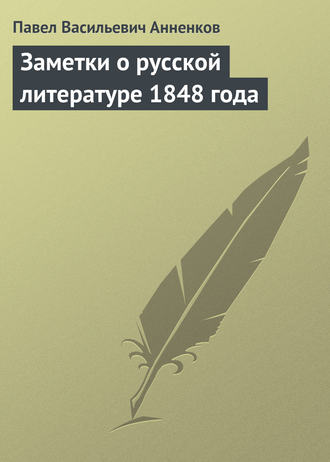
Павел Анненков
Заметки о русской литературе 1848 года
Вероятно, никто не подумает, что мы проповедуем легкость и беззаботность, так сказать, в нашей литературе. Наоборот. Стоит только указать на произведения г. Тургенева, чтоб убедиться, каких важных условий и какого мастерства требует беллетристика вообще. Во-первых, необходимо ей многостороннее знание жизни, зоркость взгляда, изощренного опытностью, всегдашнее присутствие мысли, поясняющее наблюдение, и наконец еще талант разбора самых явлений и вывода их перед читателем. Большая часть рассказов охотника родилась из прямых личных впечатлений автора. Он обращает в картину случай, ему представившийся; разбирает перед вами характер, им встреченный, и даже передает в форме рассказа собственное свое воззрение на какой-либо предмет; но сколько искусства расточено у него при этой передаче разнородных своих приобретений! Любопытно наблюдать, как меняет он для каждого нового представления краски и самый способ изложения, как верно рассчитаны для них свет и воздух, и в каких нежных оттенках и умно рассеянных подробностях выражаются у него люди и события. Верность окружающему, за которой так роняется псевдореализм, редко достигая ее, является тут сама по себе и часто достигает поэтического выражения, по глубокому проникновению в жизнь, по изучению ее. Мы желаем от души русской литературе наиболее беллетристических талантов, дающих подобные результаты. Недавно напечатана была в «Современнике» небольшая комедия г. Тургенева «Где тонко, там и рвется», открывающая новую сторону его таланта, именно живопись лиц в известном круге действователей, где не может быть ни сильных страстей, ни резких порывов, на запутанных происшествий. Кто знает, как велик этот круг, тот поймет заслугу автора, умевшего отыскать содержание и занимательность там, где вошло в обыкновение предполагать отсутствие всех интересов. Тонкими чертами обрисовал он главное лицо комедии, скептическое до того, что оно не верит собственному чувству, и запутанное так, что из ложного понятия о независимости оно отказывается от счастия, которого само искало. Всякому случалось встретить подобный характер, гораздо труднейший для передачи, чем многие великолепные герои трагедий или многие нелепые герои комедий. Интрига, простая до крайности, в комедии г. Тургенева не теряет ни на минуту своей живости, а комические лица, которыми обставлена главная действующая чета, переданы, так сказать, с артистическою умеренностию… Вот такого-то рода везде присутствующая литература и может принесть всю ту пользу, какую позволено ожидать вообще от литературы, и только на этих условиях может она сделаться необходимостью для общества и его верным воспроизведением.
Г. Григорович и автор романа «Кто виноват?» напечатали в прошлом году по одному[3] легкому очерку, в которых особенно проявились качества и род мастерства, свойственные этим писателям, столь противоположным друг другу по таланту. При небольшом наблюдении легко определить процесс, которому следует г. Григорович в создании. Ни на минуту не выпускает он из виду главное лицо и постепенно собирает около него определяющие его подробности. Твердым шагом, медленно и верно идет он в этой работе, и чем далее подвигается, тем резче выставляется характер, образ и наконец с последней чертой достигает такой художественной полноты, которая делает его неизгладимым в памяти и воображении читателя. Таков был «Антон Горемыка», и в недавней его повести «Бобыль» тем же способом воспроизвел он физиономию доброй помещицы… Мы отлагаем до другого времени сказать несколько слов о самом выражении этой и других физиономий в повестях автора: разбор их, может быть, еще более уяснил бы наши мысли об истине и верности окружающему в литературе, но мы принуждены временем и местом ограничиться на этот раз только очерком одной манеры автора.
Автор второго очерка, о котором мы говорили, уже известный своим романом «Кто виноват?», составляет совершенную противоположность по манере с г. Григоровичем. Он не следит, как тот, без устали за своим героем и даже не всегда остается ему верен до конца, как это случилось в отношении Бельтова, одного из главных лиц в его романе. Единственная цель его, единственная забота, видимо, оковывающая все внимание его, состоит в наивозможно более ярком выражении основной идеи рассказа. Последний эскиз его («Сорока-Воровка») легко мог бы служить подтверждением всему, что нами сказано об условиях беллетристики и ее значении. Как осторожно обойдено в нем все резкое и угловатое, на чем непременно споткнулся бы писатель, менее опытный; с каким уважением к эстетическому чувству читателя рассказано происшествие, которое под другим пером легко могло бы оскорбить его! Если во всем этом нет чистого художества, то есть художническая, так сказать, изворотливость, всего лучше доказывающая всегдашнее присутствие мысли, беспрестанно отыскивающей для себя необходимый исток.







