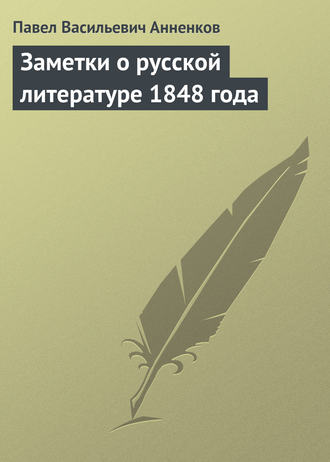
Павел Анненков
Заметки о русской литературе 1848 года
Продолжая разбор наш, мы встречаем в самой драме, которая развивается между упомянутыми лицами, еще лицо мальчика Кости, полное прелести и истины. Мы снова указываем на него псевдореализму, как на образец поэтического воспроизведения действительности, достойный всего его изучения. Слог г. Дружинина заслуживает не менее внимания: он прост, сжат, даже отрывист. Конечно, можно анализировать очарование, под которым постоянно вы находитесь за повестью автора, и сказать, например, что крупные черты, которыми рисует он свои лица, сообщают им особенную выпуклость, рельефность, но это еще не объяснит вполне тайны занимательности, им свойственной: тут важную роль играют сами профили их, сильно интересующие вас. Качество увлекательного рассказа распространяется даже на создания, видимо слабейшие и менее обдуманные, как, например, на последнюю повесть г. Дружинина «Фрейлейн Вильгельмина». Мы почти рады появлению слабо выдержанного произведения из-под пера автора «Полиньки Сакс». Оно дает нам возможность указать ему на те излишества, от которых, по мнению нашему, он должен остерегаться. В новой повести его доктор Армгольд, полный глубокого расположения к людям и уберегающий людей, изображен с обычной ловкостью, но безграничная власть его над окружающими недовольно пояснена и кажется не собственным его приобретением, а добродушным подарком автора. В подобных характерах, горделиво и бесстрастно стоящих в среде всего житейского волненья, каждый поступок должен быть оправдан более, чем в ком-либо другом. По справедливости любимая автором самостоятельность в героях и их уважение к себе переходит иногда в щегольство и преувеличенную, а стало быть и неприятную чистоту поз. Так, герой повести Радденский, проникнутый желанием любви и чувством долга (что, сказать мимоходом, опять выражено прекрасно), не выдерживает по слабости натуры собственных стремлений и, измученный, умирает в чахотке, но умирает он как-то фальшиво-грациозно. Вокруг него царствует холодная опрятность приемной комнаты, и смерть подходит к нему осторожно и учтиво, как будто знает, что имеет дело с человеком comme il faut[2]. Это уже недостатки самого рода, разрабатываемого автором, и пусть он примет предостережение наше в соображение при будущих трудах своих.
Мы могли бы уволить себя от разбора превосходных рассказов из «Записок охотника» г. Тургенева, так как общие черты их уже были указаны в прошлогоднем обзоре русской литературы («Современник», кн. III), но с именем автора соединяется у нас несколько мыслей, которые мы намерены изложить здесь. Г. Тургенев первый, кажется, из наших писателей понял важное значение того, что называется беллетристикой, и первый показал примеры как замечательных результатов, какие она может дать, так и редких качеств, требуемых ею от самого писателя. С этой точки зрения рассказы его приобретают для нас двойное значение: во-первых, по собственному содержанию, а во-вторых, по эстетическому вопросу, который они порождают. Новые рассказы г. Тургенева («Малиновая вода», «Уездный лекарь», «Бирюк», «Лебедянь», «Татьяна Борисовна», «Смерть») сохраняют все качества предшествовавших им: разнообразие, верность картин и особенно какое-то уважение ко всем своим лицам. Гуманность эта, доказывающая, между прочим, уже окрепшую мысль в авторе да сильное чувство красоты природы, составляют, как и прежде, их настоящий колорит и вполне объясняют успех их. Это этюды многоцветного русского мира, исполненные тонких заметок и ловко подмеченных черт. Истинно-художественных рассказов в «Записках», может быть, два-три («Хорь и Калиныч», первый из них по появлению остается первым и по достоинству); все остальные держатся на силе наблюдения, на литературной и житейской опытности автора. Изящная словесность целого народа не может состоять из одних художественных произведений, и требовать от нее только созданий высокого творчества значит впадать в некоторый фанатизм художественности, столь же ограниченный и неверный, как и раболепные списки с природы. Для полной литературной жизни так же необходима подметка новой стороны предмета, еще не высказанная мысль и картина, порожденная долгим опытом, как и колоссальное произведение, на котором вполне и глубоко успокаивается эстетическое чувство наше. Не признавать или отвергать это – весьма можно. Оно даже и легко при нынешнем развитии наук об изящном и благородном воодушевлении, порожденном ими, да и только тут грозит опасность обнаружить неимоверную глухоту к законным требованиям умственной жизни. Мы знаем, что можно не признавать и последних, но при этом случае мы тотчас же впадаем в род драматической фантазии, где, с одной стороны, красуется толпа, а с другой – уединенно стоящий умник. Нравственная усталость, еще остающаяся в нас после этих фантазий, освобождает нас от желания видеть повторение их на деле.







