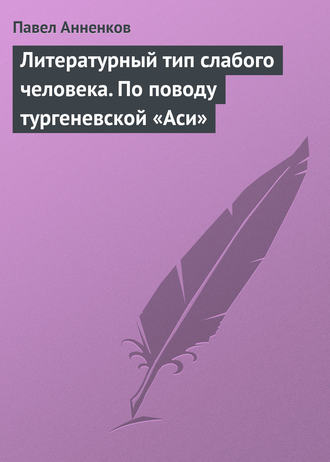
Павел Анненков
Литературный тип слабого человека. По поводу тургеневской «Аси»
Нельзя, однако же, отвергать права каждого искать доблестных мужей по душе своей и выражать удивление к великим подвигам прошлого и чужого, если не отыскиваются они в настоящем и у себя дома. Положим, что единственный подвиг нашей современности есть честный труд, основанный на нравственных убеждениях; положим, что единственная доблесть ее состоит в воспитании человека и укреплении его в идеях долга; положим, что самые жертвы, какие от нее требуются, нисколько не похожи на жертвы, а скорее на простой коммерческий расчет, но указывать мимоходом на великие примеры решимости и самоотвержения хорошо даже для поддержания благородных стремлений минуты и для вызова их, если они медлят появлением своим. Это правда, и в этом состоит важное достоинство всякого наставления, но не следует в то же время забывать и очередной, так сказать, работы жизни, которая всегда производится средствами, какие находятся у нас, что называется, под рукой. Взвешивать эти средства, принимать их в соображение и управлять ими, по крайней мере, столько же полезно, сколько думать и о недостатках, в них замечаемых. Говорят, что гении создают средства, а на поверку выходит, что гении только мастерски употребляют уже заранее подготовленные средства. Орудием современной работы мы считаем того «слабого» человека, характеристику которого старались представить здесь, и в этом убеждении укореняют нас даже кое-какие попытки на яркую самостоятельность, возбудившие, как наше, так и общее внимание. Несмотря на величавую роль самостоятельности, принятую писателем или журналистом (мы стараемся не выходить из области литературы для своих примеров и заключений), в ней постоянно оказывалось что-то неспокойное, судорожное, преходящее иногда за пределы нужного, и свидетельствовавшее о больших усилиях актера, вместо большой уверенности в себе. Настоящая самостоятельность действует иначе. Она не спешит заявить поскорей свое мнение, как будто слагая тяжелое бремя с совести, а высказывает его ровно и хладнокровно, она не скрывается от глаз, но и не выставляет себя напоказ, не навязывается никому, но заставляет признать себя невольно; наконец, она всегда готова на борьбу, но не вызывает ее торопливо и всеми силами своими. Одним из самых несправедливых упреков мы считаем тот, который делается «слабому» человеку за предполагаемое его равнодушие к некоторым вопросам, занимающим умы общества. Если бы это было основательно, то все наши доводы уничтожены были бы этим возражением, но оно весьма далеко от правды. Класс людей, описываемый нами, не может быть равнодушен к большей части мыслей, которые сам же и чуть ли не первый старался укоренить в общем сознании, и сделать из него нечто вроде реrе denature, бесчеловечного отца, нет никакой возможности. Напротив, мы думаем, что ему суждено привести к концу силою мысли, соображения и изысканий труднейшие из задач современности и особенно те, которые при самом их появлении на свете наперед разрешены были «цельными» характерами как нельзя проще и спокойнее. Где есть работа чувству разумности и справедливости, там он всегда будет первый деятель; ему надобно только не покидать обычной своей работы…
Немаловажное значение в истории «слабого» человека представляет и другое обстоятельство: он положил начало тому повсеместному общению образованных и благонамеренных людей, которое составляет нравственный круг, где не имеют понятия о сословных различиях и где всякий честный человек, откуда бы ни выходил, ценится только по добросовестности и пользе своего жизненного труда. Никому из грамотных и серьезных деятелей просвещения нельзя выделиться из этого круга без того, чтоб не очутиться в тяжелой, отчаянной пустоте. Ни одно из так называемых образованных обществ, то есть политически устроенных и полноправных, не даст успокоения его совести, а еще менее поводов к гордости и самодовольству, и духовные потребности возвратят его самым естественным путем опять в нравственный круг, не знающий никаких официальных подразделений общества и образовавший связь между людьми, но который деятель самого отдаленного географического пункта, кто бы он ни был, может считать себе коротко знакомым и близким человеком со всяким другим работником науки и успеха, с тем, кого он никогда не видал и кого, может статься, никогда не увидит. Это почва нейтральная, но твердая, и одна представляющая настоящую опору для разнородных стремлений и трудов наших.







