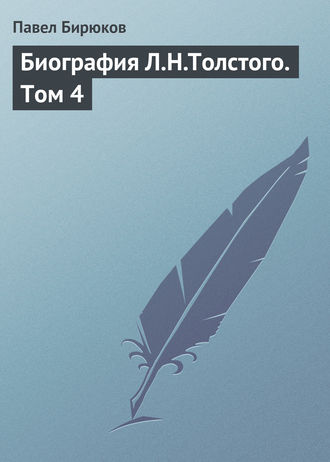
Павел Бирюков
Биография Л.Н.Толстого. Том 4
В ночь с 6-го на 7-ое было почти безнадежное положение. В полубреду он говорил: «вот все хорошо устроите, камфару вспрысните, и я умру».
Иногда силы оставляли его и он стонал:
«Как тяжко, умирать не умираешь и не выздоравливаешь». В воспоминаниях П. А. Буланже записано несколько эпизодов из времени этой болезни. Он дежурил до ночам и так вспоминает эти ночные часы:
«Помню эти ночи. Спать, конечно, не можешь, не спит и Лев Николаевич, и часы медленно, медленно тянутся. Надо дать лекарство, даешь, и Лев Николаевич справляется, который час. Часа 3 ночи. Наконец снаружи засерело, чирикнула какая-то птичка, и Лев Николаевич говорит, что, должно быть, рассветает, просит открыть штору, чтобы встретить новый, нежданный уже им день жизни. Наступает утро, и Лев Николаевич старается при помощи других (женское дежурство) умыться, причесаться, привести себя в порядок, как будто ничего нет, нет этой болезни, постели, и он сейчас начнет свою обычную работу или станет заканчивать ту, которая творилась в нем в этой ночной тиши…
Он никак не мог видеть в болезни того ужаса, который видели мы все, его окружающие, как можно видеть из того, что он записывал (т. е. диктовал) в это время. Вот некоторые из его мыслей, продиктованных им:
«Огонь разрушает и греет, так же и болезнь. Когда здоровый старается жить хорошо, освобождается от пороков, соблазнов, то это делаешь с усилием, и то как бы приподнимаешь одну давящую сторону, а все остальное давит. Болезнь же сразу приподнимает всю эту грязную чешую, и сразу делается легко и так страшно думать, что, как знаешь это по опыту, как только пройдет болезнь, она (эта чешуя) опять наляжет всей своей тяжестью».
Иногда, когда сидишь вечером где-нибудь в уголке полутемной комнаты, – продолжает Пав. Алекс. Буланже, – и наблюдаешь за малейшим движением больного, чтобы помочь, или когда кажется, что он уснул, и ждешь его пробуждения, чтобы дать ему лекарства, и подходишь с лекарством, когда видишь слабое движение руки, Лев Николаевич вдруг остановит:
– Не надо пока этого, – говорит он указывая на лекарство. И, видя умоляющий взгляд, добавляет: – Потом; возьмите, друг мой, бумаги, запишите.
И начинает диктовать вдруг поправки для дополнения к своим последним произведениям».
Далее Пав. Алекс. рассказывает так:
«8 февраля он позвал меня и продиктовал мне предисловие к солдатской и офицерской памяткам. После этой диктовки он до такой степени ослабел, что как бы впал в полную прострацию. Все окружающие приходили в ужас, что он теряет последние силы. До 9 часов вечера он находился в таком состоянии, но в это время опять позвал меня, попросил меня прочесть продиктованное днем и, боясь, очевидно, что ему не суждено уже сказать людям того, что его так мучило, собрал последние силы и продиктовал поправки и изменения к тому, что было написано днем.
Вот что было тогда продиктовано.
«Всякий мыслящий человек нашего времени не может не видеть, что из того тяжелого и угрожающего положения, в котором мы находимся, есть только два выхода: первый, хотя и очень трудный, кровавая революция, второй – признание правительствами их обязанности не идти против закона прогресса, не отстаивать старого или, как у нас, возвращаться к древнему, а, поняв направление пути, по которому движется человечество, вести по нем свои народы.
Я попытался указать на этот путь в двух письмах Николаю II. Первое было написано в период самых напряженных волнений 1900–1901 гг., второе я писал теперь, в начале января, но, к сожалению, мысли, выраженные мною в первом письме, были приняты как легкомысленная мечта, не знающего жизни и глубокомысленной науки государственного управления фантазера.
В последнем письме я говорил о том, что кроме предоставления народу возможности религиозного движения и такового же свободного общения мысли, по моему мнению, единственный путь к разрешению социального вопроса состоит у нас в России в уничтожении права собственности земли; что уничтожение это возможно переводом всех податей на землю (прекрасно изложено и разработано Генри Джорджем и его последователями). Очень может быть, что я ошибаюсь, – вопрос этот касается всех и потому должен быть разрешен всеми, – одно несомненно, что дело правительства не заботиться только о том, чтобы, не изменилось его положение, а смело взять центральную идею прогресса и всеми силами, которыми оно обладает, проводить ее в жизнь. Только тогда правительства получат в наше время какой-нибудь смысл и перестанут быть предметами ненависти, отвращения и презрения всех тех людей, которые или не пользуются их привилегиями, или не понимают значения правительственной деятельности.
А такие люди теперь почти все.
Я сделал попытку во втором письме открыть глаза государю. Но до сих пор у меня нет данных надеяться на то, что попытка эта не только достигла своей цели, но и была бы принята во внимание. И потому, в виду неизбежности первого выхода, т. е. революции, представляю к распространению теперь эти две памятки, надеясь на то, что мысли, содержащиеся в них, уменьшат братоубийственную бойню, к которой ведут теперь правительства свои народы».
Правительственные чиновники были сильно обеспокоены тем возрастающим обаянием, которым пользовалась личность Л. Н-ча, и возможной демонстрацией в случае его смерти, и темные силы закопошились у одра болезни великого человека.
«Опасное положение, в котором находился Лев Николаевич, стало известно, разумеется, и публике, и я помню, – продолжает свой рассказ П. А. Буланже, – была получена уже одна английская газета, в которой был напечатан некролог о нем. Было известно это положение и русскому правительству. В семье обсуждался вопрос о погребении. Считались с волей Льва Николаевича, который не желал, чтобы были какие-нибудь хлопоты с его телом, и поэтому пришли к заключению, что погребение должно было совершиться тут же в Крыму, а в виду последующих событий для этого был куплен по соседству небольшой участок земли.
Узнав о возможности близкой смерти Льва Николаевича, Победоносцев принял самые неожиданные и невероятные меры. Нужно сказать, что к дому в Гаспре, который занимал Лев Николаевич с семьей, прилегала домовая церковь, которая, разумеется, могла посещаться духовенством. И вот в самые тревожные минуты, которые переживались окружающими, последний акт Победоносцева, который показал этим, как мало он стеснялся средствами, состоял в том, что он отдал распоряжение местному духовенству, чтобы, как только станет известно о кончине Льва Николаевича, священник вошел в дом, занимаемый Л. Н-чем (а на это он имел право, как я только что сказал), и, выйдя оттуда, объявил окружающим его и дожидающимся у ворот лицам, что граф Толстой перед смертью покаялся, вернулся в лоно православной церкви, исповедался и причастился, и духовенство и церковь радуются возвращению в лоно церкви блудного сына.
Эта чудовищная ложь должна была облететь всю Россию и весь мир и сделать то дело, которого не могла сделать за десятки лет ни русская цензура, ни гонения на сочинения Льва Николаевича.
Распоряжение Победоносцева по этому поводу стало известно окружающим Льва Николаевича, и я не могу передать здесь того чувства негодования, возмущения, которые меры эти вызвали у всех, в особенности в эти тяжелые минуты. Много думали над тем, как помешать совершиться этому возмутительному акту лжи; некоторые горячие люди не останавливались даже перед тем, чтобы насильно помешать духовенству проникнуть в усадьбу и дом, но, наконец, остановились на следующем: если совершится катастрофа, скрыть кончину Льва Николаевича ото всех и в это время дать условные телеграммы за границу и в столицы России и объявить о смерти только тогда, когда получится известие об опубликовании везде совершившегося. Только таким образом, казалось, и возможно было предотвратить готовившийся памяти Льва Николаевича удар».
Софья Андреевна в своих записках так рассказывает об этих церковных попытках уловить Л. Н-ча назад в церковь:
«15 февраля, вечером, получила письмо от петроградского митрополита Антония, увещевавшего меня убедить Льва Николаевича вернуться к церкви, примириться с церковью и помочь ему умереть христианином.
Я сказала Левочке об этом письме, и он мне сказал было написать Антонию, что его дело теперь с Богом, – напиши ему, что моя последняя молитва такова: «От Тебя пошел, к Тебе иду. Да будет воля Твоя». А когда я сказала, что если Бог пошлет смерть, то надо умирать примирившись со всем земным и с церковью тоже, на это Л. Н-ч мне сказал: «о примирении речи быть не может. Я умираю без всякий вражды или зла, а что такое церковь? Какое может быть примирение с таким неопределенным предметом?» Потом Л. Н-ч прислал мне Таню сказать, чтобы я ничего не писала Антонию».
Продолжительная болезнь приучила Льва Николаевича к полной покорности.
Своей жене и дочери, ухаживавшей за ним, он говорил: «Теперь я решил ничего больше не ждать. Я все ждал выздоровления, а теперь, что есть сейчас, то и есть, а вперед не заглядывать. Хороша продолжительная болезнь, есть время к смерти приготовиться. Я на все готов: и жить готов, и умирать готов».
«Вечером сидела со Л. Н-чем, – рассказывает Софья Андреевна, – в период выздоровления, он говорит: «Я все стихи сочиняю: перефразировал «Все мое, – сказало злато», а я говорю:
«Все сломлю», – сказала сила,
«Все взращу», – сказала мысль!»
Весь февраль и март тянулась болезнь с постепенным улучшением. Наконец, в конце марта Марья Львовна писала мне:
«…Что вам сказать про нас: папа все еще болен – все еще не кончилась и тянется эта болезнь. На днях опять новый плеврит и воспаленный фокус, и потому опять подъем температуры и слабость. Но с радостью могу сказать, что, несмотря на это, он крепнет, и последние дни успехи значительные. Ему прислали катающееся клиническое кресло, и вот уже три дня, как он на нем сидит, лежит, и это развлекает его и радует. Теперь мы подвозим его к окну, и он любуется морем и горами. Настроением он все так же бесконечно терпелив, добр, ласков и хорош, и всем нам, окружающим его, не только радость, но самая важная, духовная польза и урок видеть его таким. Иногда ужасно жалко его, его измученного, старого, больного тела, и так хотелось бы как-нибудь помочь ему. Болезнь так затянулась, что не знаем, когда можно будет уехать в Ясную. Доктора думают, что не раньше конца мая. Весна здесь в нынешнем году запаздывает, и поэтому до сих пор еще нельзя ни вывезти его на солнышко, ни открывать окна – что очень могло бы ускорить поправление. Ну, как Бог даст. Одно знаю – что бы ни было, остаемся с ним, где бы то ни было».
К этому письму было приложено собственноручное письмо ко мне Л. Н-ча. После трогательного приветствия он писал:
«…Я завтра 2-й месяц в постели – стоять не могу, но понемногу силы прибавляются. В первый раз нынче сам пишу. Получил от Бинштока переводы 1-го тома и ваше хорошее предисловие и «Lettres» и «Garnet du soldat». Перевод хорош. Видно, надо еще пожить немножко. Как бы было хорошо, если бы я всегда знал, как теперь, что единственный смысл срока большого ли, малого моей жизни дан мне только, чтобы служить делу Божьему».
Едва оправился Л. Н-ч от тяжкой болезни, как весь снова отдается служению этому делу Божьему. Давно уже озабоченный ради блага народа проведением земельной реформы по системе единого налога Генри Джорджа, он пишет два письма, одно за другим, вел. кн. Ник. Мих., думая заинтересовать через него высшие сферы. Но эти сферы были непроницаемы.
А между тем его ждало новое испытание. В середине апреля он заболел брюшным тифом. Снова тревога, снова на ниточке держалась его земная жизнь, и снова могучие силы превозмогли болезнь, и ему и нам дана была отсрочка и возможность радости свидания.
Во время болезни он диктует глубокие мысли:
«5 мая. Гаспра. Три с половиной месяца не писал. Был тяжело болен и теперь еще не справился.
Как ясно, когда стоишь на пороге смерти, что это несомненно так, что нельзя жить иначе. Ах, как благодетельна болезнь! Она хоть временами указывает нам, что мы такое и в чем наше дело жизни.
Да будет воля того, по чьему закону я жил в этом мире (в этой форме) и теперь, умирая, ухожу из этого мира (из этой формы). Волю эту я знаю только по благу, которое она дала мне, и потому уверенный в ее благости, спокойно и, поскольку верю, радостно отдаюсь ей.
Изучайте древние религии не в том смысле, как разные ограниченные Летурно, что, мол, вот какие глупости исповедовали люди (не мы, умные), – а в том, какими глубокими мыслями и верованиями жило древнее человечество.
Нынче 22-ое мая. Гаспра. Тиф прошел, но все лежу. Жду 3-ей болезни и смерти. В очень дурном настроении. Есть кое-что написать, но откладываю. Сейчас молюсь, и молитва, как всегда, помогает.
23, 24 мая. Вчера был очень слаб, нынче лучше. Немного пописал «К рабочему народу». И начинает образовываться. Хотели снести на воздух, но холодный ветер. Стыдно, что недобро отнесся к Тане за то, что она отсоветовала выходить. Перешел на кресло. Ног будто нет.
25, 26, 27 мая. Три дня был на воздухе. Сначала 4, 5 ч нынче 6 часов. Понемногу оправляюсь. Это были потуги смерти, т. е. нового рождения, и дан отдых. Нынче получил грустное известие об аресте Суллера. Был персиянин-разносчик, вполне образованный человек, говорит, что он бабист. Теперь 1-ый час. Понемногу работаю над обращением к народу. Недурно».
Вот еще несколько мыслей из майского дневника:
«Прежде нерелигиозные люди были врагами общества, теперь они руководители.
Безопасность общества обеспечивается нравственностью его членов, нравственность же основывается на религии. Правительство и правящие классы захотели свою безнравственную жизнь оправдать религией и для этого извратили религию; а как только извратилась религия, так пала нравственность, а с падением нравственности все более и более уничтожалась безопасность общества, так что правительству и правящим классам пришлось все более и более извращать религию и употреблять насилие для соблюдения безопасности не всего уже общества, а только самих себя. Это самое и делали и делают наши христианские правительства, и положение становится все хуже и хуже. В настоящее время оно для правительства кажется безвыходным».
Наконец, в июне он записывает:
«Продолжаю проводить дни на воздухе. Работаю. Почти кончил обращение. Недурно поправляюсь, но вижу, что ненадежно».
Софья Андреевна с радостью извещает свою сестру о выздоровлении Льва Николаевича.
«…Тиф у Левочки прошел, это прямо чудо, что он выздоровел от двух смертельных болезней. Прямо выходили. И доктора здесь просто удивительные! Я лучше нигде не встречала. Внимательны и умны, всю душу кладут, чтобы помочь, и все бескорыстно. Самый умный – это Альтшулер, еврей. И человек он прекрасный, еще молодой, 36 лет, Моск. университета. Он главный лечит и влияет на Левочку. Ходили мы все; усерднее всех Сережа. Сегодня он уехал по делам в Россию, и приехал Илюша его заменить. После тифа от страха кровотечения из кишок, Левочке не велят делать усилии, и вот нужны мужчины его переворачивать и поднимать. Сил у Левочки довольно много; он вот сейчас диктует свои мысли Коле Оболенскому, читает газеты, охотно ест…»
О своем душевном состоянии после болезни Л. Н-ч подробно пишет Черткову:
«…Я поправляюсь и от тифа. Идет 5-я неделя. Все хорошо, даже два дня работаю, только не то что ходить, но стоять не могу. Ног как будто нет. Погода была холодная, но теперь чудная, и я два дня в кресле выезжаю на воздух. Ждем поправления и укрепления, чтобы ехать в Ясную Поляну, что рассчитывают, может быть, около 10 июня. Маша уехала; была Таня, а теперь живет Илья. Все прекрасно ходят за мной. Работать очень хочется и очень многое.
Сначала развиваются, расширяются, растут пределы физического человеческого существа – быстрее, чем растет духовное существо, – детство, отрочество; потом духовное существо догоняет физическое, и идут почти вместе – молодость, зрелость; потом пределы физические перестают расширяться, а духовное растет, расширяется и, наконец, духовное, не вмещаясь, разрушает физическое все больше и больше до тех пор, пока совсем разрушит и освободится. – Я в этом последнем фазисе».
В это время Л. Н-ч снова пишет болгарину Шопову, отказавшемуся от военной службы, и в этом письме есть интересные автобиографические данные:
«Спасибо вам, дорогой Шопов, что часто пишете и даете такие хорошие вести. Мне очень приятно видеть ваш энтузиазм и живую надежду на скорое торжество истины, но, пройдя уже тот путь, который вы проходите, мне хочется сказать вам о тех опасностях, которые встречаются на этом пути. Я, по крайней мере, с тех пор, как родился к новой истинной жизни, перешел следующие ступени:
1) Восторг познания истины.
2) Желание и надежду осуществить ее сейчас.
3) Разочарование в возможности быстрого осуществления истины во внешнем мире и надежду осуществить ее в себе, в своей жизни.
4) Попытку примирения истины с мирской жизнью – компромиссы.
5) Отвращение перед компромиссами и отчаяние, или хотя сомнение в истинности учения.
6) наконец, сознание того, что ты не призван изменить мир во имя истины, не можешь даже в своей жизни осуществить истину, как бы тебе хотелось, но можешь, не заботясь о том, что делается в мире (это делает Бог), не заботясь и о том, насколько ты представляешься последовательным людям, можешь по мере сил своих перед Богом осуществить истину, т. е. исполнять Его волю.
И это одно дает полное спокойствие. Ступени эти, мне кажется, проходит каждый человек, возрождаясь к жизни. И опасности на каждой из этих ступеней вы увидите сами».
Пребывание Л. Н-ча в Крыму, его болезнь и общение с новыми людьми еще сильнее укрепили его влияние на русское общество. Вот как писал о нем в это время один молодой журналист:
«В нем есть что-то библейское – простое и строгое, – вдумчивая неторопливость глубокой мысли, прекрасное спокойствие большой энергии и афористический ум, роднящий его с великими мудрецами древности.
И много в нем от нас, от века и современности: интеллигентная чуткость, порывистое искание правды, грусть славянина и острая боль о людях, и слезы, и тоска о лжи и темноте этой жизни. Гигантский ум мыслителя Голиафа с душой светлой и зыбкой, как у младенца – какое величие в этом сочетании, какая загадочность в единении этих антитез!»
25 июня Л. Н-ч выехал из Гаспры в Ясную Поляну. До Севастополя ехали на пароходе, чтобы избежать тряски в дороге, так как Л. Н-ч все-таки был еще очень слаб. Заимствуем описание этого возвращения снова из воспоминаний сопровождавшего его друга П. А. Буланже:
«На пароходе капитан предоставил больному удобную каюту, хотя море было тихо, спокойно, и погода была так хороша, что в ней не было надобности, и Лев Николаевич провел все время на палубе, сидя в кресле. По приезде в Севастополь, для избежания тряски во время переезда от пристани до вокзала по ужаснейшей мостовой, перевезли больного в лодке и, наконец, часов около 4 дня благополучно достигли ожидавшего нас вагона, и Л. Н-ч лег отдохнуть; до отхода поезда оставалось часа четыре.
Стояла нестерпимая жара, крыша вагона ужасно накалилась, дышать было нечем, и Л. Н-ч захотел выйти на воздух. Я знал, что рядом со станцией был тенистый железнодорожный садик, и еще раньше спросил у станционного начальства, можно ли будет, в случае надобности, воспользоваться этим садиком. Начальство было очень любезно: все, что хотите, везде, куда хотите, все к вашим услугам.
Взяв под руку Льва Николаевича, мы тихонько побрели к этому садику, достигли, наконец, его, и Лев Николаевич с удовольствием присел на скамейку отдохнуть под тенью. Хотя мы прошли и небольшое расстояние, он очень устал, и я уже стал обдумывать, как бы устроить ему возможность прилечь тут. Но едва мы просидели тут несколько минут, как с балкона, находившегося в саду дома, сошла дама с очень серьезным, важным видом и попросила нас удаляться.
Я запротестовал, говоря, что нам позволили побыть в этом саду.
Но дама с очень внушительным видом заметила мне: «это сад начальника дистанции, и здесь не позволяется шататься всяким».
– Но позвольте же, – взмолился я, указывая на Льва Николаевича, – больному-то хоть немного отдохнуть.
– Проходите, проходите, – продолжала она безапелляционным тоном, – иначе я позову сторожа.
Я не хотел сдаваться, но Л. Н-ч поднялся и усталым голосом заметил мне: «Оставьте, зачем делать ей неудовольствие, я могу идти».
Делать было нечего, побрели мы из садика и остаток времени провели в душном вагоне. Ко времени отхода поезда на вокзал набилось очень много народа, хотели в последний раз посмотреть Л. Н-ча, проводить. Около вагона была невообразимая давка, трудно было пройти и приходилось пробираться к себе в вагон через другие вагоны. Минут за 5 до отхода поезда в дверях вагона стояли две дамы и умоляли впустить их повидать гр. Толстого. Проводник вагона позвал меня. Лицо одной дамы показалось мне знакомым. Я спросил, что им нужно. Тогда эта дама стала с мольбой, униженно объяснять мне. «Я хочу просить у него прощенья, ах, как это ужасно, поймите, он был у нас сегодня в саду, и вы ведь, кажется, были с ним? и я же сама сказала ему, что в саду нельзя быть. Я простить себе не могу, – говорила она с отчаянием, – но я никак не могла думать, что это был сам Толстой».
Мне было и смешно, и досадно – я узнал теперь эту важную даму, вид ее был жалок. Но пройти ей ко Льву Николаевичу никак нельзя было: в вагоне была суета, давка, стояли вещи, через которые и нам трудно было перебираться. Наконец, пробил второй звонок, и я безнадежно развел перед ней руками. «Так по крайней мере передайте хоть этот букет из нашего сада и попросите от меня прошения».
Через несколько минут поезд отошел из Севастополя, и через два дня, 27-го июня, Лев Николаевич благополучно прибыл в Ясную Поляну».







