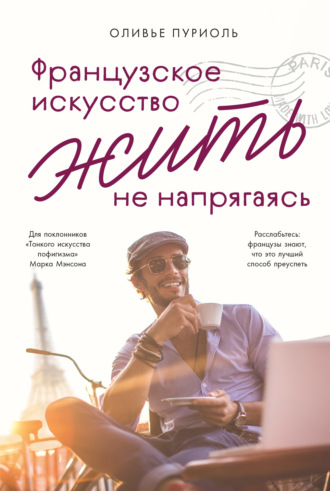
Оливье Пуриоль
Французское искусство жить не напрягаясь
3
Искушение 10 000 часов
Прилагать усилия –
значит работать наперекор себе.
Ален
Легкость не концепция, а чувство. Чувство, которое можем испытывать – или вызывать. В начальной школе я любил читать. Просто обожал. Читал по книге в день, а иногда и больше. Это не было трудом, это было наградой: как конфету съесть или получить приз. Я видел, как мучились мои друзья, с трудом одолевая одну книгу за неделю, – а я с удовольствием проглатывал одну книгу за день. Иногда две. Иногда одну и ту же дважды. Помню, что три раза за день перечитал «Зов предков» Джека Лондона – с каждым подходом все быстрее и быстрее. Меня тронула история Бэка, которому пришлось сменить беззаботную домашнюю жизнь на суровую судьбу ездового пса. Несмотря на «обывательское» происхождение, у Бэка есть преимущество перед остальными собаками: ему нравится тащить нарты и бороться за то, чтобы оказаться впереди. Для всех это борьба, но для него – радость. Тяжелая работа дается Бэку благодаря чутью – отсюда и название книги. Другие страдают, но ему как будто все нипочем: это зов предков. Для меня же это был зов книг. Ни Бэк, ни я не заслуживали похвалы. Мы просто делали то, что нам нравилось больше всего на свете.
Через несколько лет, когда у меня началась высшая математика (а моим фокусом по-прежнему были буквы), я понял, каково это – оказаться по другую сторону. Занятия велись в таком темпе, что от ведения конспекта у меня болела рука. После двух часов непрерывного переписывания непонятных мне символов и формул я почувствовал себя привязанным к колышку ослом, который ходит по кругу, или шарманкой, воспроизводящей лишь нескончаемое ощущение тщетности. Или Сизифом. Впрочем, последнего, по утверждению Альбера Камю, «следует представлять себе счастливым», несмотря на то что боги обрекли его бесконечно поднимать на вершину горы огромный камень, который неизменно скатывался вниз. Когда заканчивались занятия, день начинался по-настоящему: все в общежитии в поте лица готовились к завтрашним занятиям. Как кроты в норах. Кроты – образ говорит сам за себя – закапывались все глубже и глубже (в высшую математику), не видя белого света. От слова «закапываться» пахнет лопатой, а от лопаты – тяжелым трудом. В конце концов, мы жили у лицея Людовика Великого, в Латинском квартале, традиционном студенческом районе, так что адская атмосфера не была сюрпризом. Впрочем, не для всех она была адской. Для кого-то учеба походила на приятную прогулку в парке. Седрик, например, никогда и никуда не закапывался, а просто расхаживал себе по коридорам. Очередной «крот» высовывал голову из норы и совал ему исписанный листок: «Седрик, я над этим два часа уже бьюсь. Задолбался!» Седрик бросал взгляд на бумажку, а затем, пройдясь взад-вперед по коридору, через минуту с улыбкой произносил: «Есть два решения. Второе более изящное». Он не прикладывал усилий. Он просто видел решение. Решения, если точнее. Другие из кожи вон лезли, пытаясь найти хотя бы одно, он же без труда находил сразу два. Математика текла у него в жилах, была его «зовом предков». Увидев легкость Седрика, я больше ни секунды не сомневался – и откликнулся на свой зов. Директор без труда приобщил меня к настоящему делу – к поступлению в Высшую нормальную школу на гуманитарное направление. Этот двухгодичный курс еще называют khâgne («кривоногие» – прозвище для книжных червей). Из-за смены направления – с физико-математического на гуманитарное – моя нагрузка не уменьшилась, но я, по крайней мере, стал чувствовать себя в своей тарелке, превратившись из «крота» в «червя». Директор только пожал плечами: «Я же говорил». Он знал, о чем толкует.
Всего две недели занятий высшей математикой – и я почувствовал чудовищную усталость, пустоту и упадок сил, хотя настоящая гонка еще толком не началась. Как только я принял решение вернуться к гуманитарным наукам, во мне снова проснулась воля к жизни: я был переполнен энергией, энтузиазмом и радостью. Конечно, счастье длилось недолго, поскольку подготовительные занятия – дело тяжелое, но в первые дни я чувствовал эйфорию. Я понимал, что было написано на доске. Я снова говорил на одном языке с преподавателями. Все вернулось на круги своя. И хотя общая атмосфера была напряженной (что вполне понятно: мы готовились к экзаменам), я чувствовал себя так, словно сбежал из тюрьмы или вырвался с галер. Я снова мог смотреть на горизонт – и на все возможности, которые передо мной открывались.
* * *
Я отказался от страданий, которые готовит неверный путь. Противоестественные усилия изматывают. Да, это показатель самоотверженности и самоотречения, но в первую очередь – бессмысленное самопожертвование. Добродетель, которая попутно наносит вред, все же не лишена ценности. Но в конечном счете большего добьется тот, кто получает удовольствие от дела, чем тот, кому оно не по душе. Первый будет работать с радостью, даже если время от времени придется страдать, а второй будет страдать постоянно. Хорошая упряжная собака всегда готова тянуть сани, каким бы ни было расстояние. Ее не нужно подгонять и подталкивать. Эрик Моррис, биохимик и каюр – управляющий упряжкой (то есть дважды специалист в этом вопросе), объясняет: нет смысла награждать собак едой при подготовке к очень длинным заездам. Например, к ежегодной гонке на собачьих упряжках «Айдитарод», которую знающие люди называют «последней великой гонкой на планете» (ее дистанция – более полутора тысяч километров по холодной Аляске, в том числе и ночью). Негативное подкрепление – техника дрессировки, которая заключается не в награде, а в отсутствии наказания, – тоже не работает. «Здесь действует тот же метод, что и с птичьими собаками: чтобы они начали охотиться на фазана, они сначала должны его попробовать, понюхать. Это должно принести им огромную радость. Также и желание тянуть сани, оно должно быть врожденным… и каждая собака относится к этому по-своему»[4], – отмечает Эрик.
Я прочитал это в замечательной книге Дэвида Эпштейна «Спортивный ген». Первое, что мне захотелось сделать, – завыть на луну. Меня поразила проведенная автором параллель между дрессировкой упряжных собак и тренировками профессиональных спортсменов. Некоторые наивно полагают, будто для достижения цели достаточно просто захотеть. Эпштейн, опираясь на исследования, пишет, что все не так просто. Некоторым людям не нужно даже хотеть что-то делать, им не нужно заставлять себя или принимать осознанное решение: у них нет выбора, им просто надо бежать. Он приводит в пример Пэм Рид – легкоатлетку, которая неоднократно преодолевала сверхмарафонские дистанции. Она дважды побеждала в сверхмарафоне «Бэдуотер» – дистанция в 215 км начинается в калифорнийской Долине Смерти. По ее словам, если она не выйдет на пробежку хотя бы три раза в день, а лучше пять (чтобы в общей сложности получилось не меньше трех часов), то будет чувствовать себя скверно. С возрастом усидеть на месте стало проще, но в покое для нее по-прежнему не очень уютно. У Франсуазы Саган была похожая ситуация, но с чтением. Писательница, опубликовавшая свой самый известный роман «Здравствуй, грусть!» в очень юном возрасте, делилась: «Я все время читаю – даже когда пишу. Если я работаю несколько часов подряд, то делаю перерыв, чтобы немного почитать. Переключиться мыслями на того, кто подумает за тебя, особенно если книга захватывающая, – для меня лучший способ отдохнуть. Мне это нравится, так у меня поднимается настроение»{6}.
Уверен, что мой товарищ по учебе Седрик не мог представить себе день без математики. Все эти ситуации не связаны с волей (или почти не связаны). Не требуется никаких усилий – в неприятном смысле этого слова. Когда Франсуаза Саган читала или писала, она была счастлива, потому что погружалась в свою стихию – в текст. Седрик с упоением погружался в стихию математических задач. Оба чувствовали себя как рыба в воде – или, скорее, как упряжные собаки посреди холода и снега. Это более удачный образ: даже если им сложно, они все равно получают удовольствие. Им нравится тянуть сани. В этом их отличие.
Если что-то дается мне легко, я сразу начинаю думать, что задача сама по себе проста и что остальные тоже справятся с ней без усилий. Это называется иллюзией эксперта. Оказавшись по другую сторону, вы поймете, что дела обстоят иначе: то, что легко дается одному человеку, у другого может вызвать затруднения. Иллюзия эксперта – типичная иллюзия преподавателей литературы, которым кажется, будто все должны любить чтение. Или преподавателей математики: они никак не могут взять в толк, что сложного в элементарных формулах. Это их единственная трудность – уяснить для себя, что простые (для них) вещи могут быть непонятны окружающим.
Существует и обратная сторона медали: то, что без труда дается другим, и у вас получится легко. Это иллюзия новичка. Но недостаточно увидеть, как Филипп Пети без усилий идет по канату, чтобы справиться с этим самому. Если Седрик решил математическую задачу за 30 с, это не значит, что и вы справитесь с ней так же быстро (и вообще справитесь). Как правило, иллюзия новичка не выдерживает столкновения с реальностью, и все становится очевидно. Но еще говорят, что новичкам везет: сделать что-то сложное с первой попытки порой удается именно потому, что мы еще не понимаем, насколько это сложно. Когда я впервые взял в руки баскетбольный мяч, то ради забавы решил закинуть его в кольцо с середины площадки, да еще и повернувшись спиной к цели. Разумеется, это невозможно. Опытные баскетболисты только посмеялись. Я бросил мяч назад – так высоко и далеко, как только мог, – и едва успел обернуться, чтобы увидеть, как мяч завершает идеальную траекторию. Он попал в кольцо, даже не коснувшись обода. А я ушел с площадки как ни в чем не бывало, оставив всех в изумлении.
Я, честно говоря, и сам очень удивился. Мне было совершенно понятно, что это чудо, которое я едва ли смогу повторить. Новичкам везет – но недолго. В первый раз все происходит как по волшебству: у человека получается нечто невероятное – то, что невозможно воспроизвести во второй раз, в третий, в четвертый и т. д. Правда, память о случайном успехе становится чем-то вроде обещания: если тренироваться годами, то, возможно, удастся вновь обрести эту младенческую невинность, приносящую удачу. Эксперт, специалист, знаток, умелец – это тот, кому удалось нащупать состояние, позволяющее легко, изящно, грациозно творить чудеса.
Грация – то, что Филипп Пети демонстрирует на канате, а Зинедин Зидан на футбольном поле. Ее замечают все. На грацию Зизу обращали внимание и его одноклубники. И даже жены одноклубников – хотя их мужья и сами были игроками мирового уровня. Виктория Бекхэм (жена Дэвида Бекхэма, который играл с Зизу в мадридском «Реале») сравнивала Зидана с балериной. Это комплимент: Виктория сама певица и танцовщица. Однако между футболом и танцами есть принципиальная разница: задача футболиста – не только красиво двигаться, но и побеждать, забивать голы. У его движений есть цель, в то время как для танцора движение – уже цель. Тем не менее у танцев и футбола есть нечто общее: тренировки даются тяжело. Даже Зидану.
«Грация» – опасное слово. В английском (grace) и французском (grâce) у него есть дополнительный религиозный оттенок: благодать, милость. Говорят же – поэт милостью Божьей, хирург милостью Божьей… Это своего рода благословение свыше, даже благодать. Давайте так и будем называть это состояние. Не зря чуть выше я использовал формулировку «творить чудеса». Можно подумать, что это дар: либо он есть, либо его нет (и развить его в себе невозможно). Но не удивляйтесь, что Зидану потребовалось много тренировок, чтобы добиться подлинной грации, которой он обладал на пике карьеры. Да, у него были врожденные способности, он талантлив, но именно труд помог ему стать Зизу.
То же самое и с Филиппом Пети. Он охотно это признает: «У меня нет физической страховки – но я создал психологическую». Прежде чем оказаться над пропастью между башнями-близнецами, Филипп не жалел времени на тренировки. Неделями, месяцами он думал только о своей цели. Фрагмент за фрагментом, с терпением средневекового ремесленника, он создавал мозаику – этот идеальный миг. Он потратил несколько лет на подготовку ради нескольких минут грации. Ради того, чтобы на несколько минут ощутить ту самую благодать. Филипп предупреждает: «Это работа. Отрезвляющая, жесткая, обманчивая. Тот, кто не готов к долгой и тяжелой борьбе с тщетными усилиями, опасностями и ловушками, кто не готов пожертвовать всем, лишь бы почувствовать себя живым, – тот не рожден канатоходцем». Не рожден – и не сможет им стать. Хотите попросить Филиппа о совете? Он очень прост: «Работать, работать, работать. Постепенно канат вам покорится». И лишь тогда, «после долгих часов тренировок, настанет момент, когда трудности отпадут и все покажется возможным, все будет легко». Легкость появляется в конце пути. Не в начале. Но сколько времени придется отдать тренировкам? «Не рассчитывайте, что достаточно лишь несколько часов упорного труда, чтобы у вас начало получаться, – предупреждает Филипп. – Нужно ощущать кожей то, что вы делаете». У Эдит Пиаф есть песня под названием Je t'ai dans la peau – дословно «Ты у меня под кожей». Это выражение – «попасть под кожу» или, более фигурально, «запасть в душу» – означает, что у вас нет выбора: если уж любовь есть, то она есть, и никуда от этого не деться. Любовь с первого взгляда похожа на дружбу по Монтеню. На вопрос, почему он любил своего друга, он отвечал очень просто: «Потому, что это был он, и потому, что это был я»[5]. Друг вам человек или любовник, неважно: он должен запасть вам в душу. Или нет.
Футбол, хождение по канату, скрипка, фортепиано, хореография и любые другие занятия, для которых требуются осознанные движения, должны буквально «попасть под кожу». Благодаря упорному труду, поту и потраченному времени. Все знают, что труд необходим. Невозможно встать с дивана и сразу стать чемпионом, бросив кубики или произнеся заклинание. Даже если бы у вас были магические способности, пришлось бы сначала научиться волшебству – спросите у Гарри Поттера. Легкость – результат преодоления трудностей. Военные говорят: «Тяжело в учении, легко в бою». Ни коротких, ни обходных путей не существует. То, что мы называем талантом, при ближайшем рассмотрении зачастую оказывается трудом (более или менее скрытым), разве не так? А гениальность – это, согласитесь, на самом деле глубоко потайной труд.
Никто не сомневается в необходимости тренировок и обучения. Вопрос состоит в их количестве. Слышали про Малкольма Гладуэлла? Это автор The New Yorker, я люблю читать его книги в самолете или в аэропорту (ладно, признаюсь – и дома тоже). В «Гениях и аутсайдерах»[6] он приводит точный ответ на этот вопрос. По его словам, «волшебное число величайшего мастерства» – 10 000 часов. Хотите стать кем-то в какой бы то ни было области? Все просто (в кавычках): нужно посвятить ей 10 000 часов (или около 10 лет). Как ни странно, к такому же выводу пришел и Стендаль: он призывал писать каждый день по часу или по два, есть вдохновение или нет. Если делать так в течение 10 лет, мы получим 3652 или 7304 часа (нет-нет, високосные годы я тоже посчитал). Для достижения цели – то есть для того, чтобы приблизиться к 10 000 часов, – нужно писать по два-три часа в день. Стендаль считает так же, как и Гладуэлл: за гениальность мы ошибочно принимаем результат упорного труда. Результат 10-летнего упорного труда, если точнее.
Зачем же тянуть резину 10 лет? Ведь можно работать по 10 часов в день, и тогда понадобится меньше трех лет… Затем, что недостаточно просто накопить часы практики. Эта практика должна быть осознанной, представлять собой усилие по достижению конкретной цели (навыка или действия, которые пока не даются). Другими словами, вам должно быть сложно. Вы должны прочувствовать каждой клеточкой, как вам сложно. Золя и Флобер посвящали писательскому ремеслу по 10 часов в день, но это совсем другой вопрос. Их трудолюбие может показаться чудовищным, но на самом деле большую часть времени они пытались подобрать правильное слово или мысленно переставляли слова в предложении – так же, как Джакометти «просто возился с глиной». То есть делали то, что им больше всего нравилось. Это требует осознанно потраченного времени – а еще некоторой степени беззаботности. В любом случае нет ничего общего с непрерывно прикладываемым усилием. Три-четыре часа осознанной практики, желательно в несколько подходов, – это максимум: направленное внимание представляет собой усилие и, следовательно, утомляет. Остаток дня следует посвятить отдыху или менее напряженным занятиям: чтению, размышлениям, планированию, досугу в той или иной форме и т. д. Три-четыре часа в день – с учетом одного выходного в неделю и двухнедельного отпуска раз в год – в сумме дают 1000 часов, или 10 000 часов через 10 лет.
Так что для успеха вам потребуются 10 лет труда. Раз уж мы об этом заговорили, обратите внимание на некоторое противоречие между названием книги и ее содержанием. Или ты гений, или аутсайдер? Гладуэлл предлагает правило 10 000 часов, а в качестве примеров приводит группу The Beatles и Билла Гейтса. Если вам кажется, что они гении, то, согласно Гладуэллу, вы упускаете важнейшую часть их биографии. Гениальность – концепция, которую придумали ленивые. Она позволяет верить, что люди, добившиеся успеха, ничем не рисковали – просто родились такими. Но на самом деле их исключительность состоит лишь в том, что им выпал шанс работать больше других.
Так, Гладуэлл описывает решение менеджера группы The Beatles отправить неопытных музыкантов в Гамбург, чтобы они на протяжении нескольких месяцев давали по несколько концертов в день, причем в самых обычных клубах. По мнению Гладуэлла, то, что должно было стать испытанием, оказалось возможностью. Музыканты смогли набраться опыта, повзрослеть, заматереть – словом, это был вклад в пресловутые 10 000 часов. А другие группы, оставшиеся в Ливерпуле (и других городах Англии), играли только на выходных, по несколько часов. Когда The Beatles вернулись в Англию, такое конкурентное преимущество заметно выделило их на фоне остальных и позволило сделать прорыв.
Билл Гейтс? Та же история. В те времена, когда он начал интересоваться компьютерами и программированием, приходилось ждать неделю, чтобы получить доступ к университетскому компьютеру – и то лишь на несколько драгоценных минут. Но мама Билла работала в больнице и договорилась, чтобы сыну разрешили пользоваться компьютером тогда, когда он никому не требовался: ночью. Билл Гейтс воспользовался возможностью и ежедневно (еженощно, если точнее) набирал часы опыта. Через несколько лет, когда Билл включился в гонку по разработке персональных компьютеров, это превратилось в огромное конкурентное преимущество. Вы считали The Beatles Артюром Рембо в мире поп-музыки, а Билла Гейтса – Моцартом в мире IT? Вы ошибались: просто они серьезно подходили к делу, были прилежными и, вероятно, вдохновенными тружениками, но главное в другом. Они работали не покладая рук.
Кроме того, если внимательнее изучить биографию Рембо, которого считают гениальным поэтом, то вы узнаете, что он сам по себе был человеком крайне серьезным (помните его строчку – «В семнадцать лет серьезность не к лицу»?) и еще в 15-летнем возрасте выиграл конкурс стихов на латыни. Рембо, типичный поэт-изгой, бросивший писать стихи в 19 лет, отличался успехами в учебе и великолепно владел латынью: писал на ней свободно, даже не обращаясь к словарю. Если сложить время, потраченное на сочинение стихов, изучение латыни и обильнейшее чтение, в сумме легко набежит 10 000 часов. А что насчет Моцарта? В пять лет отец-скрипач познакомил его с тонкостями игры на клавесине, а в 14 он смог записать по памяти Miserere, самое знаменитое сочинение итальянского композитора и священника Грегорио Аллегри, услышав его лишь однажды. А ведь это сложное произведение, длящееся четверть часа! Впечатляет, правда? Итого: к 14 годам Моцарт легко набрал 10 000 часов, если не больше. Успех Рембо и Моцарта не взялся ниоткуда: просто оба рано начали.
10 000 часов за 10 лет. Что ж, скажете вы, звучит серьезно и в то же время реалистично. Но как Малкольм Гладуэлл пришел к такому красивому круглому числу? Он опирался на результаты исследования, проведенного в 1993 г. под руководством Карла Андерса Эрикссона из Университета штата Флорида и двух других психологов во всемирно известном Берлинском университете искусств. Кратко передам его суть. Для эксперимента отобрали 30 студентов-скрипачей по рекомендации преподавателей и разделили их на три группы: «лучшие из лучших» (будущие всемирно известные солисты, суперзвезды скрипичной сцены), «отличники» (будущие музыканты оркестра) и «хорошисты», или будущие учителя музыки (без комментариев). Все они посвящали изучению музыки 50,6 часа в неделю. В счет шли теоретические занятия, репетиции, концерты и т. д. Очевидно, что все они тратили на работу с инструментом одинаковое время, но было важное отличие: студенты из двух первых групп уделяли индивидуальным занятиям 24,3 часа в неделю, а из последней группы – всего лишь 9,3 часа. Еще одно существенное несовпадение: скрипачи из первых двух групп отмечали, что спят примерно по 60 часов в неделю, а скрипачи из последней группы – 54,6 часа в неделю. Получается, больше индивидуальной работы и больше отдыха.
Но мы до сих пор не видим разницы между «лучшими из лучших» и «отличниками». Скрипачей попросили ретроспективно оценить, сколько у них накопилось часов практики с того момента, как они взяли в руки скрипку. Оказалось, что «лучшие из лучших», несмотря на такой же объем еженедельной практики, как и у «отличников», просто начали раньше. К 12 годам у них уже было на 1000 часов больше, чем у будущих преподавателей. К 18 годам будущие солисты в среднем набирали 7410 часов индивидуальной практики, будущие музыканты оркестра – 5310 часов, а будущие учителя музыки – 3420 часов. Следовательно, заключили психологи, существует прямая зависимость между уровнем компетентности групп и средним общим временем индивидуальных занятий на скрипке.
Аналогичные результаты наблюдаются и среди пианистов. По оценкам исследователей, музыканты – вне зависимости от инструмента – в среднем накапливают 10 000 часов практики к 20 годам. Вернее, не просто практики, а целенаправленной практики. Музыкант осознанно выбирает сложные упражнения, требующие усилий. Такие занятия по своей сути должны быть индивидуальными, поскольку риск ошибки слишком высок и, следовательно, репетировать лучше не под критическим огнем со стороны сверстников.
В статье под названием «Роль целенаправленной практики в приобретении экспертных навыков»{7} Эрикссон и его соавторы переносят свои выводы и на спортивную сферу. В спорте, как и в музыке, то, что люди принимают за дар и врожденный талант, на самом деле представляет собой результат многолетних упорных тренировок. Серия приближений и обобщений – и вот появилось «правило 10 000 часов». Согласно этому правилу, для достижения профессионализма в любой сфере необходимо (и достаточно) посвятить этому делу 10 000 часов. Посыл, согласитесь, крайне обнадеживающий: да здравствует демократия, да здравствует равенство, любой может добиться желаемого благодаря упорному труду. Но в то же время он заставляет родителей чаще отдавать маленьких детей в спортивные секции и музыкальные школы, а также подкрепляет бытующее заблуждение, что если человек чего-то не добился, то причина в недостаточном усердии. Эта концепция одновременно раскрепощает (как говорят французы, quand on veut, on peut – если хочешь, то можешь) и обвиняет («твои неудачи – твоя вина»). «Волшебное число величайшего мастерства», как его описывал сам Гладуэлл, может использоваться для стигматизации.
Дэн Маклафлин прочитал Гладуэлла (возможно, тоже в самолете, как и я) и очень серьезно воспринял это число. В день своего 30-летия, 5 апреля 2010 г., он решил бросить все и полностью посвятить себя гольфу, чтобы через 10 000 часов практики стать профессионалом. Для чистоты и убедительности эксперимента у Дэна должны были отсутствовать сколько-нибудь выдающиеся физические навыки и опыт игры в гольф. Все так и было. Дэн описывал себя как совершенно обычного, среднего человека. Если получится у него, получится у всех. Он завел блог и принялся претворять план в жизнь. Он консультировался с самим Эрикссоном, который составил для него график, и работал с профессиональным тренером по гольфу. Шесть часов в день, шесть дней в неделю. Это уже вдвое превышает «нормальный» темп. При таком количестве тренировок Дэн мог накопить 10 000 часов и стать профессионалом уже к концу 2016 г.
Но все оказалось не так просто. Даже Эрикссон в своем исследовании признавал, что в эксперименте участвовало слишком мало людей, чтобы можно было делать обобщения. Кроме того, участники его эксперимента уже прошли отбор и обучение, и в этом случае было невозможно провести точную границу между врожденным и приобретенным: где заканчивается талант и начинается труд. Эрикссон специально старался не принимать во внимание то, что может быть результатом природного дара. Исследование, напомню, было ретроспективным, и оценки скрипачей разнились в пределах 500 часов. Последнее и самое важное замечание: 10 000 часов – число примерное. Да, в среднем те, кто показывал лучшие результаты, работали 10 000 часов. Но отклонение – сильно ли количество практики каждого отдельного участника отличалось от среднего показателя – нам неизвестно.


