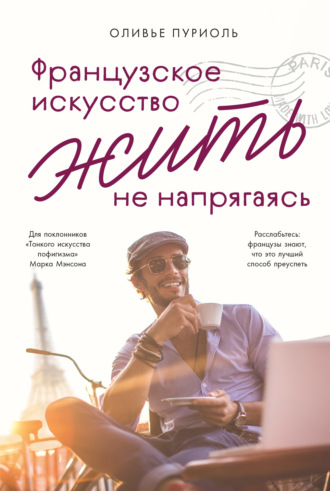
Оливье Пуриоль
Французское искусство жить не напрягаясь
Если творческие порывы вам чужды, взгляните на писательство как на умственное упражнение. Заставьте себя, если потребуется. Ощутив вкус свободы, которую дарит отказ от перечитывания написанного, вы сможете привнести эту свободу и в другие сферы. Вся жизнь приобретет привкус импровизации, которая приносит счастье: вы отбросите стремление к совершенству, связывающее по рукам и ногам, и перестанете терзаться из-за чувства, будто уже «слишком поздно». Мы осознаем, что можем все, поскольку настоящее действие – это продолжение, течение, поток, а не вечные попытки закончить дело и затем приступить к новому. Серьезные перемены часто происходят косвенно: пустяковые решения непрерывно накапливаются и накапливаются. Каждый день продолжайте делать то, что делаете, а не начинайте все заново. Тогда результат будет более впечатляющим и вместе с тем долговечным.
Не убирайте все фигуры с игровой доски. Удивите себя: продолжайте игру, а не бросайте ее. Ведь вы всегда сможете начать новую партию, как только эта закончится. А пока задумайтесь, какой ход вы можете сделать прямо сейчас (даже если он ничего не изменит), чтобы получить удовольствие от игры.
Главная ошибка – ждать и ничего не делать, держа ручку над бумагой или поставив жизнь на паузу. Терпение – это добродетель, но вечное ожидание (а особенно ожидание от себя слишком многого) бесплодно. Если не знаете, как выбраться из этой ямы, возьмите пример со Стендаля: позаимствуйте первое предложение – или действие – у кого-то еще и продолжите его. Такое продолжение позволяет двигаться за счет чужого импульса, а не своего собственного. В автоспорте есть понятие «слипстрим» – езда непосредственно за другим автомобилем в завихренной зоне с целью уменьшить лобовое сопротивление. В жизни, как и в писательском ремесле, сперва нужно влиться в чужой поток. Мы осваиваем речь, подражая другим, а потом зубрим грамматику и изучаем стилистику. Шаг за шагом, даже не осознавая этого, мы создаем собственный слипстрим и начинаем писать на языке. Мы давим на газ и мчимся вперед. Скульптору нужна глыба мрамора, чтобы изваять статую (или отсечь лишнее, как учил Микеланджело). Он не может создать скульптуру из воздуха, из ничего, ex nihilo. Вероятно, когда Джакометти предавался тому, что сам называл одержимостью, и «просто возился с глиной» – бесцельно, ради удовольствия, – он еще не приступал к делу по-настоящему, но это не мешало ему продолжать. Он чувствовал, что не добивается того, к чему стремится, но зато работа его радовала. Прочтите отрывок из интервью, которое Джакометти дал талантливому документалисту Жану-Мари Дро на одной из выставок:
– Синьор Джакометти, когда мы в прошлый раз встречались с вами в Париже, вы создавали скульптуры. А здесь, в Цюрихе, вы напоминаете пастуха со стадом на выпасе. Скульптуры повсюду. Что вы чувствуете по этому поводу?
– Вчера я прогулялся по выставке, и мне показалось, что все выглядит прекрасно. По крайней мере, на какой-то миг показалось. Даже слишком прекрасно. Это меня несколько беспокоит.
– Почему же?
– Потому что это войдет в определенное противоречие с моими общими представлениями о мире, если я и дальше буду так же счастлив, как вчера. Значит, я или утратил способность критически мыслить, или пришел в ту точку, где мне уже нечего делать.
– Но все же впечатление такое, будто вся ваша жизнь собрана в одном зале.
– В некотором смысле да, но… Такое чувство, будто она еще не начиналась.
2
Начните
Ключ к действию в том,
чтобы к нему приступить.
Ален
Первый шаг – легкий трепет влюбленных и кошмар канатоходца. «Я не смог бы сделать первый шаг, если бы не был уверен, что смогу сделать и последний; это очень похоже на веру в Бога». Чьи это слова? Филиппа Пети. Кто такой Филипп Пети? Вы не знаете? Значит, вы француз, ибо нет пророка в своем отечестве. Лучший способ познакомить вас с этим человеком – позволить вам прочувствовать то, что он делает. Давайте проведем небольшой эксперимент. В конце абзаца закройте глаза, сосчитайте до 10 и откройте. Начнем.
* * *
Вы открываете глаза – а вокруг только небо. Где-то в высоте вы краем глаза замечаете парящую птицу. Что это за оглушительный звук? Стук сердца. Ноги дрожат. Вы смотрите вниз. Под ногами головокружительная высота. Вы на самом краю пропасти. Вас тянет осмотреться, и вы нагибаетесь. Под вами 410 м – почти полкилометра. Это четыре футбольных поля от края до края, шесть соборов Парижской Богоматери, а Эйфелева башня ниже на 100 м. Взглядом вы упираетесь в землю. Ту самую землю, о которую вы при любом неосторожном движении… Откуда этот ветер? Это ветер ваших мыслей. Единственный ветер, который способен нарушить ваше равновесие. Вы поднимаете голову и смотрите прямо перед собой. Направление взгляда следует за канатом, по которому вы вот-вот пройдете. Этот канат, вернее, 60-метровый трос, вы и ваши помощники – Жан-Франсуа, Жан-Луи и Альберт – ночью тайно протянули на высоте 400 м над землей от одной башни до другой. Вы мечтали пройти между этими башнями и поклялись себе, что рано или поздно добьетесь своего. Скорее рано, чем поздно. Рано утром. Сегодня утром. На часах еще нет и семи. Сейчас 7 августа 1974 г. Далеко внизу – крошечные люди: одни уже проснулись и идут на работу, другие возвращаются с ночной смены, чтобы лечь спать. А вы здесь, в вышине и одиночестве, готовитесь ступить на трос. Нью-Йорк просыпается, но вы всю ночь не спали. Готовы? Можно ли вообще подготовиться к такому трюку? Вы собираетесь пересечь пропасть между башнями-близнецами нового Всемирного торгового центра. Несколько лет тренировок и сомнений – и вот ваш час наконец-то настал. Прямо сейчас вы Филипп Пети, но с первым шагом превратитесь в канатоходца.
Условия далеки от идеальных. На небе тучи. Может пойти дождь. Пожалуй, ветер чуть сильнее, чем хотелось бы. Очень высоко. В книге «Трактат о хождении по канату» (Traité du funambulisme) Филипп Пети пишет: «Нельзя сомневаться. Или думать о земле. И то и другое глупо и опасно»{4}. Выдержит ли канат? Может, стоит отложить затею? Нет, конечно. Через минуту включат лифты, через две минуты первые рабочие поднимутся на крышу. А вскоре приедут и полицейские.
Вот и все, механизм пришел в движение. Ваш друг и помощник (вернее, сообщник) Жан-Франсуа, которого за помощь могут арестовать и посадить в тюрьму, смотрит на вас и передает балансир весом 25 кг, необходимый для перехода. Теперь отступать некуда.
Что ж… Аккуратно ступите на трос. Сначала опорной должна быть выпрямленная правая нога, которая все еще стоит на крыше Южной башни. А затем вес нужно перенести на другую ногу и сделать первый шаг по канату. Наступает момент принятия решения.
Первый шаг пугает. Первый шаг – точка невозврата. Вы вспоминаете, как впервые увидели башни-близнецы. Это было шесть лет назад: вы сидели в очереди к стоматологу и увидели фотографию в журнале. Вы вырвали страницу (хотя это вам должны были вырвать зуб) и удрали с найденным сокровищем. Башни еще не были построены, но вы могли их себе представить. Во второй раз вы увидели их уже не на фотографии, а вживую. Снизу, разумеется. Высоченные, внушительные. Фотография заставила вас мечтать, а реальность поразила. Каждая клеточка внутри вас безмолвно кричала на том языке, который вы понимаете лучше всех: это невозможно, невозможно. Даже теперь, потратив несколько месяцев на подготовку, вы по-прежнему так считаете. Но именно поэтому вы затеяли то, что затеяли. Конечно, не как придется. Первый шаг должен быть верным – иначе он же окажется и последним. «Ошибка – приступать к делу без надежды, без гордости, потому что цель наверняка не будет достигнута», – скажете потом вы. Когда кости брошены на стол, пути назад нет. Все определено заранее – тем, как вы бросили кости, тем, как вы бросились в бой. Но при этом все зависит от надежды, которую вы питаете. От гордости. На самом деле гордость – это не чувство, а позиция: насколько прямо вы держитесь, насколько уверенно смотрите на мир. Не ощущение, а состояние. Состояние, которое избавляет от откровенного неудобства – задумываться. Если вы хотя бы на секунду задумаетесь, станет очевидно, что ваша идея безумна: рисковать жизнью ради того, чтобы пройти по канату, натянутому между двумя высочайшими небоскребами мира. Так и есть. Жизнь канатоходца всегда висит на волоске. Этот волосок – вера. «Я ступаю на канат с чувством уверенности». Откуда оно берется? Часы тренировок, тщательная подготовка, знание, как правильно напрячь икру, как поставить стопу… Но на самом деле оно берется ниоткуда. Уверенность канатоходца – это самоуверенность. Бессознательная или даже безумная. Вера без Бога. Чистая вера.
Разрешите мне кое-что добавить перед тем, как вы сделаете первый шаг. Отнеситесь к началу внимательно. Даже если первый шаг – не вопрос жизни и смерти, это всегда вопрос стиля.
Если поставить ступню целиком, шаг будет уверенным, но грузным. Если же скользнуть по канату пальцами, затем подошвой и, наконец, пяткой, то вы сможете насладиться дурманящей легкостью, потрясающей на такой высоте. И тогда люди скажут: «Он гуляет по канату!»
В этом вся суть: создать ощущение приятной прогулки – в небесах, на высоте в 110 этажей. Вы должны быть легким, как сон, как мечта. Чтобы воплотить мечту, нужно перенять ее легкость. Легкость, позаботься об этом первом шаге!
А если начало положено, достаточно просто продолжать. Камни, которые уже лежат в стене, определяют место для последующих. Чем выше стена, тем меньше пространства для сомнений и случайностей, тем больше вы связаны необходимостью. Но как же набраться смелости, чтобы начать? Положить первый камень в основание стены – задача нетрудная, но вот сделать первый шаг… Свобода кружит голову, а бесконечное число возможностей – это как падение: беззвездное небо, метафизическая пропасть, в которой нет ничего, кроме вопросов. Почему нужно делать то, а не это? Почему нужно выбрать этот путь, а не другой? Канатоходец хотя бы знает, куда идти. Прямо вперед. 60 м по тросу. Он колеблется не по поводу направления, а по поводу первого шага. Каким он будет? Ведь потом выбора уже не останется. Разумеется, это касается не любого дела. Пример с канатоходцем – это просто крайний случай, метафора. Начало – в любой сфере – содержит в себе семена успеха или неудачи. Недостаточно просто приступить к делу, необходимо сделать это уверенно. В верховой езде, беге, работе или любовных отношениях первый шаг определяет то, что за ним последует. Решительное начало многократно увеличивает вероятность успеха. Это сродни стрельбе из лука: стрела, пущенная легкой, недрогнувшей рукой, скорее попадет в яблочко. Ее полет завершен в то мгновение, когда она срывается с тетивы. Это не вопрос предопределенности: стрела никуда не летит, пока ее не пустили. Ничто не предрешено заранее, но точка, где окажется стрела, определяется в самом начале – за это отвечает стрелок, выбирая начальное движение, которое и гарантирует попадание в цель.
Как говорил Декарт, нерешительность – худшее из зол. Как ее избежать? Андре Жид, еще один почитатель Стендаля, как-то отметил в дневнике: «Великий секрет Стендаля, его огромная хитрость – писать сразу, без колебаний… Благодаря этому в его работах чувствовалось нечто неожиданное. Казалось, будто они получились с первого раза. ‹…› Стоит появиться сомнению – и мы теряемся». Глубокое замечание. Мы сомневаемся не из-за того, что растерянны: наоборот, мы можем растеряться из-за сомнений. Растеряться и потеряться – разные вещи: потеряться – это заблудиться и не понимать, где ты, а растеряться – это не понимать, куда двигаться дальше.
Неудивительно, что писатели восхищаются Стендалем. Все отдают себе отчет, насколько сложно начинать, а он просто бросает чернила на бумагу: без каких бы то ни было сомнений, с места в карьер. Так же, как Наполеон шел в атаку. Или так же, как человек прыгает в воду, чтобы научиться плавать. То же можно сказать и про ходьбу: мы трогаемся с места, начинаем падать – и преобразуем падение в импульс, в движение вперед. Чтобы научиться ходить, нужно быть готовым упасть.
Все это, конечно, хорошо, но что, если человек вдруг потеряется, заблудится по-настоящему – например, останется без связи в глухом лесу, где нет указателей? Неужели и тогда он не будет сомневаться? Декарт в «Рассуждении о методе»[3] пишет о ситуации, когда разум человека не влияет на волю:
В этом я уподоблял себя путникам, заблудившимся в лесу: они не должны кружить или блуждать из стороны в сторону, ни тем паче оставаться на одном месте, но должны идти как можно прямее в одну сторону, не меняя направления по ничтожному поводу, хотя первоначально всего лишь случайность побудила их избрать именно это направление. Если они и не придут к своей цели, то все-таки выйдут куда-нибудь, где им, по всей вероятности, будет лучше, чем среди леса.
Вам кажется, будто непременно нужно действовать, но вы не понимаете, как именно? Лучше всего выбрать случайное направление и придерживаться его, чем ходить кругами или замереть на месте в бесконечных сомнениях. Если ничего не делать, то вы неизбежно проиграете. Сделать выбор, пусть даже случайный, – значит выйти из этого подвешенного состояния. Выбор – это путь. Декарт писал: «Моя вторая максима – быть настолько твердым и решительным в своих действиях, насколько это возможно, а также придерживаться мнения, в котором я сомневаюсь, но которое сформулировал, с такой же энергией, как если бы я был в нем абсолютно уверен». Странная рекомендация от философа-рационалиста. Неважно, говорит он, в чем состоит решение, лишь бы вы сами считали его правильным. Каким бы сомнительным ни было мнение, его истинность не имеет значения, если вы в ней убеждены. Как же великий мыслитель, заклятый враг предрассудков, может подталкивать к такому отречению от истины? Это возмутительно и абсурдно. Истинность мнения не может быть предписана. Сперва нужно не спеша рассмотреть его под разными углами, взвесить все за и против – и только потом вынести вердикт.
Это верно в области мысли. Но в области действия все обстоит иначе. На практике времени мало, друзья мои, солнце садится, собирается дождь, воды у нас нет, и нужно поднажать. Чаще всего вопрос не в действии, а в реакции: на обстоятельства, на события, на других людей. Если тратить время на разбор всех возможных вариантов, до дела так и не дойдет, будет слишком поздно. Поэтому Декарт и говорит, что лучше выбирать наугад, чем не выбирать вообще. Какое решение будет хорошим? То, которое вы приняли и которого придерживаетесь так, будто оно лучшее из возможных. В критический момент, когда надо действовать срочно, это всегда наиболее удачный вариант. Почему? Потому что. Как только решение принято, оно должно стать окончательным и бесповоротным. Все, пути назад нет – как нет и места сожалениям. Нельзя передумать на полпути. Настоящий враг действия – сомнение.
Получается, что в основе действия лежат не долгое размышление и тщательный выбор. С этой точки зрения начать – это значит закончить. Это значит подвести черту под колебаниями, сомнениями, подсчетами и просто приступить к делу. Не завтра, не потом: здесь и сейчас. Не дожидайтесь 1 января, чтобы дать себе новогоднее обещание. Ален замечает: «Решение ничего не значит, это лишь инструмент, которым ты должен воспользоваться. За ним следует мысль. Учтите, что мысль никоим образом не может направлять действие, которое еще не начато». Речь не о том, чтобы полностью отказаться от размышлений во время деятельности, а о том, чтобы размышлять в рамках деятельности и только в случае необходимости, то есть поставить мысль на службу действию. Мысль должна быть предельно легкой – не мешать, не путаться под ногами. Мысль, регулируемая действием, – это огромная сила. Если же ее сковывают сомнения, она становится бичом, проклятием.
Разумеется, было бы куда лучше иметь время и возможность тщательно взвесить каждый выбор – как у всезнающего, всемогущего и всеблагого Бога Лейбница, которого Вольтер высмеял в «Кандиде». Вернее, идею, будто «все связано цепью необходимости и устроено к лучшему» и Он просчитал все варианты, прежде чем сотворить «лучший из миров». Но мы, люди, часто вынуждены действовать вслепую. Почему? Декарт дает понятное объяснение. Когда мы думаем о Боге – не о Боге верующих, не об объекте религиозного поклонения, а об идеальном гипотетическом существе, – в Нем все бесконечно: Его разум (способность мыслить), сила (способность действовать), воля (способность утверждать или отрицать, хотеть или не хотеть). Идеальное существо – всезнающее и всемогущее, наделенное бесконечной волей, – способно думать обо всем, творить что угодно, желать всего. А мы, жалкие смертные, наделены лишь ограниченным пониманием, ограниченной силой, но – и это своего рода чудо – обладаем, подобно Богу, бесконечной волей. Мы не способны осознать все и сразу, мы не способны сделать все, что пожелаем, – но способны желать чего угодно. Метафизически мы бессильны, но внутри у нас бесконечность. Именно поэтому мы все равно можем принимать решения и действовать, даже когда по своей природе не знаем будущего и не имеем возможности мысленно перебирать варианты развития событий. Ален, последователь Декарта, очень четко это формулирует: «Бессмысленно думать о том, что мы собираемся делать, пока до дела еще далеко. Это все равно что заниматься организацией картотеки до того, как в ней появятся первые карточки. Или мысленно проговаривать фразы до того, как они будут произнесены». Последний пример – самый показательный, он как фигуральная оплеуха. Мысль не должна быть началом всего. Люди, которые бесконечно продумывают действия, никогда к ним не приступают. Давайте учиться у альпиниста, покорившего Гималаи: если просто смотреть на гору, никогда не поднимешься на вершину. «Я отправляюсь в путь именно потому, что хочу его найти», – скажет он.
Это одновременно и парадокс, и секрет всех людей действия: они приступают к делу неосознанно. Разумеется, у них есть некое смутное представление об этом деле, иначе у них не получилось бы начать. Но если бы они понимали все от и до, потребность в действии отпала бы. Они действуют не потому, что знают, а с тем, чтобы узнать. Такие люди сами становятся первыми зрителями своей жизни, будто наблюдая за ней со стороны, но оставаясь при этом у руля. Радость действия состоит в том, чтобы удивлять себя. В том, чтобы открывать и новые пути, доступные только благодаря действию (непривычный маршрут для альпиниста), и новое в себе (храбрость, страх и т. д.). Когда человек действует, он всегда первым удивляется результатам. Удивляется, но не опускает руки при неудаче. Напротив: если он обращает внимание на то, что с ним происходит, он может скорректировать курс – как моряк, который постоянно подстраивается под ветер и волны. Действие не подразумевает, что вы приняли серьезное и окончательное решение, чтобы руководствоваться только им. Действие – это цепь постоянных пустяковых решений, принимаемых в соответствии с тем, что мы знаем и чего не знаем. Действие – это постоянство. И постоянное совершенствование.
Не противоречит ли это совету Декарта – выбрать направление (даже наугад, если это необходимо) и никогда от него не отклоняться «по ничтожному поводу»? Что лучше: принять окончательное решение и придерживаться его любой ценой – или постоянно переоценивать происходящее и менять курс по мере развития событий? Зависит от обстоятельств. В полной тьме, когда непонятно, куда идти, следуйте завету Декарта: выберите направление наугад, даже наобум, и придерживайтесь его. А если у вас есть хоть какое-то представление о ситуации, если вы, как опытный моряк, умеете считывать направление ветра, глядя на водную гладь, если вы можете делать прогнозы, опираясь на данные, – нужно делать то, что подсказывают вам эти данные. В качестве иллюстрации давайте вспомним удачный пример Алена, который мы уже разбирали выше (я еще назвал его «фигуральной оплеухой» из-за наглядности). Вот что он пишет далее: «Я понимаю, что хочу сказать, только когда открываю рот». Это противоречит всем нашим бытовым представлениям о правильном и неправильном, в том числе народной мудрости: «Семь раз отмерь, один раз отрежь» (французы считают, что нужно семь раз повернуть язык во рту, прежде чем заговорить, чтобы случайно не сказать какую-нибудь глупость). Значит ли это, что мы вообще не должны обдумывать свои слова, пока не откроем рот, чтобы их выпустить? Не совсем. Но ведь разговор – это тоже приключение. Приключение, в котором мы постоянно участвуем. Когда человек начинает говорить, он не всегда точно знает, что сейчас скажет. И это не изъян: так устроена устная речь. Для этого она нам и нужна: научить нас нашим же мыслям, сделав их реальными и, следовательно, осязаемыми, перенаправляемыми, изменяемыми. Такими, как все, что существует в реальности.
Парадокс заключается вот в чем: нельзя слишком много думать о том, что хочешь произнести, если нужно, чтобы вышло хорошо. Тот, кто долго колеблется, что и как сказать, не найдет нужные слова – именно потому, что ищет их. Мысль встает на пути у слова. Верно и обратное: люди, уделяющие недостаточно внимания тому, что они говорят, рискуют увлечься звучанием собственной речи в ущерб смыслу слов. В разговоре важно избавить от напряжения и себя, и речь с ее свободным ритмом, но в то же время ненавязчиво направлять поток слов. Речь должна литься. И единственный способ узнать, что мы собираемся сказать, – сказать это. Даже когда нам кажется, что мы уже это знаем, по-настоящему все определится только в момент речи. Мы с беззаботностью лунатика или канатоходца оказываемся на тросе между намерением и смыслом. Хрупкий баланс, который нам придется поддерживать.
Вы когда-нибудь замечали, как действует актер Эдуар Бер? Выступает ли он на церемонии открытия Каннского кинофестиваля, ведет ли культовую передачу на радио – он всегда производит впечатление импровизатора. Как джазмен, если хотите. И неважно, говорит он по бумажке или нет. Именно поэтому мы слушаем его, следим за ним с удовольствием, восхищением и даже некоторым страхом. А вдруг он запнется, договаривая фразу? А вдруг чары развеются?
Успешная импровизация – это сон наяву, и, как ни парадоксально, нельзя слишком зацикливаться на идее, которую мы хотим выразить. Нужно быть осторожным в словах. Но осторожность – это не страх: боятся дети, которым велят сначала думать, а потом говорить, боятся мафиози, над которыми, как дамоклов меч, висит омерта – кодекс молчания. Это благородная осторожность: осторожность канатоходца, который продвигается по тросу без лишних раздумий, чтобы не упасть. Даже если ритм речи влечет вас за собой, важно ему не поддаваться. Говорить – оседлать волну слов, которая накатывает, несет нас вперед, но в то же время угрожает поглотить. Речь политиков французы называют langue de bois – «деревянным языком»: она тяжеловесная, негибкая, безжизненная. Герои живого слова, напротив, покоряют волну на самой легкой доске. Наше внимание во время разговора направлено не на то, что уже существует, а на реальность, которая образуется с каждым шагом (каждым словом): мы – ее первые свидетели. Смысл понятен: если бы мы начинали говорить лишь тогда, когда составили в голове готовую фразу, то сидели бы молча.
Что ж, в жизни все то же самое. К жизни нельзя подготовиться. Разминку придется пропустить. Следите за своим настроем. Если вы научитесь приступать к делу без страховки с гордо поднятой головой, то научитесь жить так же, как учатся кататься на велосипеде или ездить на лошади, – положившись на побудительную силу, источник которой – сама жизнь. Да, вы будете постоянно удивляться. Какими будут сюрпризы – приятными или не очень? Ничто не происходит именно так, как было задумано. Никогда нельзя полностью к чему-то подготовиться и полностью все распланировать. Чем дольше вы колеблетесь, тем сложнее будет действовать. Не дожидайтесь абсолютной уверенности. Каким окажется будущее? Чтобы это узнать, надо шагнуть в него.
* * *
Давайте вспомним о Филиппе Пети и вернемся в 7 августа 1974 г. В тот момент, как лифтовой механизм приходит в движение, Жан-Франсуа передает приятелю балансир. У Филиппа есть всего минута, чтобы решить, пойдет он по канату или нет, невзирая на усталость и страх.
Внезапно воздух теряет плотность. Жана-Франсуа для меня больше нет.
Башня напротив пуста.
Колесо подъемника больше не вращается. Горизонт словно подвешен – с востока на запад.
Нью-Йорк уже не уходит в бесконечность. Городской шум не слышнее, чем вой ветра, – но и его порывы, его силу я больше не чувствую.
Я подхожу к краю. Я перешагиваю через металлическую балку.
Я ставлю левую ногу на трос.
Правой ногой я по-прежнему опираюсь на башню.
Я все еще принадлежу к материальному миру.
Как только я начну переносить вес тела влево, правая нога освободится и ступня двинется навстречу тросу.
С одной стороны – башня, массивная, надежная, как горный хребет. Привычная для меня жизнь.
С другой – мир облаков: он настолько исполнен неизвестности, что кажется пустым. Слишком много пространства.
Между башней и облаками – тоненькая нить, и все мое существо, колеблясь, пытается распределить оставшиеся крохи сил.
В голове – ни одной мысли. Слишком много пространства. Под ногами – проволока. Больше ничего.
‹…›
Наружу рвется крик, возникает дикое желание сбежать.
Но уже слишком поздно. Канат готов.
Трос словно проходит через сердце, и каждый его стук разносится эхом в пространстве – эхом, которое отбрасывает в небытие любую мысль.
Я решительно ставлю вторую ногу на канат.
‹…›
Пытаясь преодолеть потрясение и страх, насколько же сильный, насколько и внезапный, я… да, я испытываю великую радость и гордость: я удерживаю баланс на высоте. С легкостью{5}.


