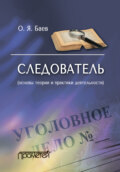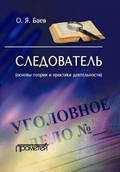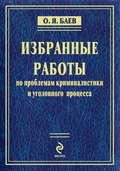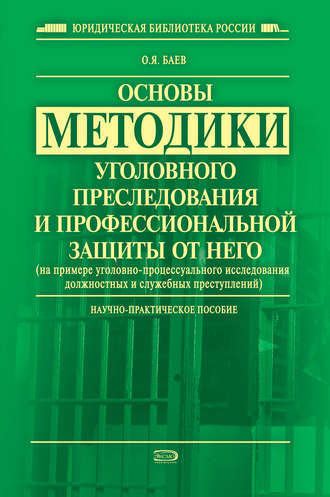
Олег Яковлевич Баев
Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него (на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных преступлений)
Вот почему, повторим, необходимо скорейшее принятие закона о коррупции, содержание которой, как представляется, должно включать в себя все виды и формы прямо или завуалированно корыстных умышленных преступлений по должности и службе, в том числе прямое, непосредственное взяточничество и «блат», а также совершаемые по иной личной заинтересованности.
Она же – «иная, некорыстная личная заинтересованность» субъектов этих преступлений – может колебаться в весьма широком диапазоне: от политических предпочтений и симпатий (в случаях, например, совершения преступлений, предусмотренных статьями 142, 142.1 УК РФ) до улучшения количественных и качественных показателей, характеризующих их должностную или служебную деятельность. Они совершаются (как зачастую формулируется эта мотивация в следственных и судебных актах по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных, в частности, статьями 285, 286 УК РФ) «из ложно понятых интересов службы».
«Иная личная заинтересованность, – отметил Пленум Верховного Суда, – как мотив злоупотребления или подлога может выражаться в стремлении извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленном такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п.» (постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или судебных полномочий, халатности и должностном подлоге» в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г.).
Но чаще всего, повторим, мотивация всех этих преступлений – однозначно корыстная.
Заметим, что аналогичная мотивация лежит в основе действий лиц, обращающихся к тому или иному чиновнику для решения последним неких вопросов в их незаконных или даже законных интересах: «желание избежать выполнения каких-либо обязанностей, получить привилегии, ложно понятые интересы производства, учреждения». И хотя называющий эти мотивы А.С. Джандиери рассматривает их относительно поведения взяткодателей[87], нет сомнений, что они едины для всех лиц, в подобном качестве участвующих в умышленных преступлениях, совершаемых по должности или службе.
Единство этих факторов предопределяет и единство типового механизма следообразования в результате совершения данными субъектами этих преступлений. Ими же, сразу скажем (подробнее о том будет говориться ниже), также во многом обусловливается единство и методических следственных ситуаций, возникающих на различных стадиях и этапах уголовно-процессуального исследования этих преступлений.
К типовым объектам следообразования (в данном случае под ними мы понимаем объекты, на которых остаются следы) можно отнести:
1) документы, отражающие должностные или служебные действия субъекта преступления, выполненные им для удовлетворения интереса лица, обратившегося к нему «за помощью» лично или через посредника;
2) объекты (деньги, предметы, услуги имущественного характера и т. п.), явившиеся вознаграждением субъекту преступления за выполнение им действий в интересах обратившегося к нему (лично или через посредника) лица;
3) память лиц, в том или ином качестве имеющих отношение к совершению такого преступления (субъект преступления, лицо, к нему обратившееся, посредник), а также других лиц, располагающих некими сведениями об обстоятельствах, с тем связанных.
Как уже обосновывалось ранее, возможности переработки следователем этого механизма следообразования во многом обусловливаются складывающейся следственной ситуацией в ее методическом значении.
Методические следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений этой криминалистической классификационной группы (особенно на первоначальном его этапе), зависят от того, свидетельствует ли поступившая в распоряжение следователя из предусмотренных УПК источников информация о том, что преступление уже имело место быть либо что лицо, занимающее должностное или служебное положение, намеревается его совершить. Эти ситуации мы достаточно условно именуем соответственно ретроспективной и перспективной следственной ситуацией (повторим, в методическом значении данной криминалистической категории).
С изложенных позиций далее мы предпримем попытку рассмотреть методику уголовно-процессуального исследования наиболее сложного как для уголовного преследования, так и для профессиональной защиты от него преступления из сформированной криминалистической группы – взяточничества (коммерческого подкупа).
Помимо изложенного выше о правомерности конструирования единой криминалистической методики уголовно-процессуального исследования умышленных преступлений по должности и службе, применительно к взяточничеству, коммерческому подкупу, провокации взятки или коммерческого подкупа об этом с очевидностью свидетельствуют сами диспозиции названных уголовно-правовых норм.
Статья 290 УК признает взяткой получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Согласно статье 204 УК коммерческим подкупом является незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.
Как видим, различие между этими деяниями с точки зрения их уголовно-процессуального исследования состоит, по существу, в разном служебном статусе субъекта: является ли он должностным лицом либо таковым не является, а выполняет управленческие функции в коммерческой или иной негосударственной организации.
И хотя диспозиция статьи 291 УК состоит лишь из одной краткой констатации факта («дача взятки лично или через посредника»), а в отношении коммерческого подкупа она существенно расширена[88], с позиций криминалистических принципиальных различий в них нет.
Статья 304 УК под провокацией взятки либо коммерческого подкупа понимает попытку передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа.
Очевидно, что расследование провокации взятки либо коммерческого подкупа в первую очередь предполагает проверку версии, не имел ли в конкретном случае факт действительного получения взятки должностным лицом, или незаконного получения материальных ценностей, или услуг материального характера лицом, выполняющим управленческие функции в негосударственной организации. И напротив, не менее очевидно (и это будет подробно рассмотрено в соответствующем месте данной работы), что одной из наиболее типичных версий защиты от уголовного преследования лица в получении взятки или в коммерческом подкупе является то, что в отношении его была осуществлена провокация[89]. А потому проверка той или иной из названных версий (лицами, осуществляющими уголовное преследование, профессиональную защиту от него, судом) имеет единые методические основы, что и при уголовно-процессуальном исследовании взяточничества (коммерческого подкупа) как такового.
При этом мы исходим из убеждения, что в соответствующей интерпретации предлагаемые методические рекомендации всецело могут быть использованы для рационализации уголовно-процессуального исследования всех других преступлений данного криминалистически определенного вида. В целом же, как нам представляется, наибольшие, но не принципиальные различия между частными методиками исследования отдельных из них состоят лишь в перечне обстоятельств, устанавливаемых при допросах вовлеченных в орбиту совершения таких преступлений лиц, что, в свою очередь, как уже отмечалось, предопределяется диспозицией той статьи уголовного закона, под действие которой подпадает исследуемое деяние, соответствующим образом интерпретируются.
Глава 2
МЕТОДИКА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ НЕГО В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ДОЛЖНОСТНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ (на примере взяточничества)
§ 1. Криминалистический анализ взяточничества (коммерческого подкупа)
Исходя из изложенного ранее, далее для простоты изложения (и восприятия текста читателем) под взяткодателем мы будем условно понимать лицо, передающее материальные ценности или предоставляющее иные выгоды материалвного характера как должностному лицу, так и лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации; под взяткополучателем соответственно – лицо, эти «блага» незаконно получающее за выполнение в интересах взяткодателя указанных в диспозициях данных уголовно-правовых норм действий или бездействия.
Напомним, что в уголовном праве взятку подразделяют на взятку-подкуп и взятку-благодарность. Тут же сразу скажем: в данной работе мы отнюдь не претендуем на углубленное освещение не только всех, но и большинства уголовно-правовых проблем взяточничества, а рассматриваем лишь те, которые нам представляются значимыми с криминалистических позиций.
Посредником же вообще, как писал еще В.И. Даль, является «третий, избранный двумя сторонами для соглашения… средство для передачи и сообщения»[90]. Посредник во взяточничестве представляет чужие интересы (либо взяткодателя, либо взяткополучателя), он выступает от имени и по поручению соответственно одного из этих лиц. Для собственных же его интересов факт выполнения взяткополучателем действий в пользу взяткодателя безразличен. Заметим, сказанное отнюдь не свидетельствует об отсутствии у него материальной заинтересованности в «положительном исходе дела», от результатов которого, как правило, зависит получаемое им от привлекшего его в качестве посредника лица материальное вознаграждение. Однако, как на то обратил внимание Пленум Верховного Суда Российской Федерации, «уголовная ответственность посредника во взяточничестве в зависимости от конкретных обстоятельств по делу и его роли в даче или получении взятки наступает лишь в случаях, предусмотренных статьей 33 УК РФ» (постановление «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»).
Криминалистический анализ особенностей рассматриваемых преступлений, с которого, напомним, должна начинаться уголовно-процессуальная деятельность в их отношении, и потому, естественно, конструирование соответствующей частной криминалистической методики позволяет сделать несколько выводов, в первую очередь предопределяющих ее специфику и сложность. К ним мы бы отнесли:
• дачу/получение взятки (что самоочевидно происходит «с глазу на глаз», без свидетелей либо при тщательном «прикрытии» криминального характера этой акции); при этом ни взяткодатель, ни тем более взяткополучатель не заинтересованы, что не менее очевидно, в выявлении этого факта: за взятку в интересах взяткодателя выполняются определенные действия, за которые взяткополучатель незаконно получает материальные блага (обычно, как отмечено выше, свои интересы в этих преступлениях имеет и посредник);
А потому (и об этом наглядно свидетельствует следственная практика) лицо, давшее взятку, сообщает об этом в правоохранительные органы в трех случаях:
а) когда взяткополучатель, получив «мзду», не выполнил предопределенные этим действия в его интересах;
б) когда после дачи взятки это лицо убеждается, что взяткополучатель просто был обязан выполнить действия в его интересах без всякого за то вознаграждения;
в) когда подача заявления о даче взятки обусловлена расследованием в отношении данного лица (взяткодателя) уголовного дела по фактам иных преступлений, а также результатами проведенной в его же отношении оперативно-розыскной работы (этими же обстоятельствами обусловливаются и достаточно редкие факты, когда о взятке сообщает сотрудникам правоохранительных органов сам взяткополучатель).
Исключением из сказанного является ситуация, когда лицо, у которого вымогают взятку, по тем или иным причинам сообщает об этом в правоохранительные органы. Но в данных случаях такое лицо с позиции психологии вряд ли корректно именовать взяткодателем: мотивация его действий иная, чем у реального взяткодателя: не желание добиться выполнения взяткополучателем каких-либо действий в своих интересах, а стремление изобличить коррупционера[91].
• предмет взятки, каковым являются только материальные ценности и выгоды. Так, статья 290 УК относит к предмету взятки деньги, ценные бумаги, иное имущество и выгоды имущественного характера; статья 204 УК – деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказание услуг имущественного характера.
Признаемся, что причины подобного разночтения в законодательном определении предметов взятки и коммерческого подкупа (выгоды имущественного характера – услуги имущественного характера) нам непонятны[92]. На практике же установление того, носит ли оказанная взяткодателем взяткополучателю выгода или услуга имущественный характер, представляет значительную сложность.
Автору довелось принять участие в обсуждении с руководством одного следственного подразделения следующего казуса: в качестве благодарности («расплаты») за совершенное должностным лицом действие в его пользу «взяткодатель» обеспечил ему услуги проститутки.
По мнению большинства участников обсуждения, исходя из пункта 9 постановления Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам о взяточничестве…», если оказанные ему сексуальные услуги оплатило само должностное лицо – взятки нет; если «взяткодатель» – налицо факт получения взятки; и потому следователю было дано указание тщательно выяснить данное обстоятельство. Заметим, что в конечном счете уголовное дело, возбужденное по данному факту, было прекращено по нереабилитирующим основаниям (как в частной беседе «чистосердечно признался» автору следователь, во многом в связи с его сомнениями в наличии в действиях обвиняемого состава преступления).
В другом случае ситуация была следующей. Профессор Иванов, жена которого работала в фирме Петрова, в пределах своей должностной компетенции оказал «активную помощь» при поступлении в вуз сына Петрова (завысив, как полагало следствие, ему оценку при приеме вступительного экзамена). Спустя некоторое время после этого Петров перевел жену Иванова на значительно более высокооплачиваемую должность.
Возбужденное по данному факту уголовное дело в дальнейшем было прекращено по реабилитирующим основаниям (в частности, потому, что следствию не удалось опровергнуть утверждения Иванова об объективности оценки им знаний этого экзаменующегося и Петрова – о производственной необходимости перевода Ивановой на другую должность и об отсутствии связи этого с зачислением его сына в вуз; в частной же беседе следователь опять же высказал сомнения о наличии в действиях Иванова и Петрова составов дачи/получения взятки).
Легализация «обычных» предметов взятки достаточно несложна: составляющие его денежные суммы могут быть обменены на другие купюры либо переведены в другую валюту, незамедлительно израсходованы; происхождение других материальных объектов, являющихся предметом взятки, объясняется их приобретением, получением в подарок и другими правомерными причинами.
В то же время передача «из рук в руки» (либо через посредника) денег в российских рублях или в валюте, ценных бумаг либо какого-либо дорогостоящего или дефицитного предмета, оставаясь традиционным способом взяточничества, в настоящее время трансформируется в более сложные формы.
Практика, например, уже сталкивается не только со случаями преднамеренного проигрыша взяткополучателю баснословных сумм в казино или на ипподромах, выплаты многократно завышенных относительно общепринятых гонораров за книги и статьи, написанные (а зачастую – подписанные) должностным лицом (эти способы передачи взятки также достаточно традиционны[93]), но и с фактами передачи взяткополучателю денежных средств с использованием обезличенного электронного оборота[94], имущественных прав на недвижимость (как непосредственно, так и через третьих лиц), перечисления денежных средств на расчетные счета фирм (специально созданных или реально существующих), к которым имеет отношение сам взяткодатель, его родственники, другие его доверенные лица, и другими весьма завуалированными и специфическими для расследования способами дачи/получения взяток.
Однако такие формы дачи/получения взяток – и это, как представляется, может учитываться участниками совершения данных преступлений – неукоснительно влекут возникновение дополнительных следов, более того, следов объективных: материальных в виде отражения этих действий в соответствующих документах (в частности, связанных с «переходом» предмета взятки из владения взяткодателя в собственность взяткополучателя или его связей). Кроме того, говоря об этом, следует напомнить, что сфера электронного денежного оборота (виртуальных денег) в нашей стране еще не очень развита и многие люди к ней доступа не имеют. И потому в наших условиях передача взятки «из рук в руки» еще длительное время, думается, останется наиболее распространенным способом взяточничества;
• часто взятка дается через посредника (возможность чего, как уже упоминалось, отражена в диспозициях комментируемых уголовно-правовых норм). Это обстоятельство обусловливает две важные в криминалистическом значении проблемы.
Во-первых, в такой ситуации в ряде случаев взяткодатель и взяткополучатель между собой бывают лично незнакомы. А это накладывает отпечаток как на саму возможность проведения отдельных следственных действий, так и на тактику производства отдельных из них. Например, это исключает возможность предъявления для опознания взяткодателя взяткополучателю (и наоборот); предопределяет круг вопросов, связанных с обстоятельствами непосредственного момента дачи/получения взятки, которые следует выяснять при допросах этих лиц, и т. п.
Во-вторых, здесь возникает необходимость выяснения вопроса, «дошел» ли предмет взятки вообще или в его полном размере до предполагаемого взяткополучателя, был ли он в действительности ему передан. Более того, посредник, будучи изобличенным в получении предмета взятки от взяткодателя для передачи взяткополучателю, зачастую выдвигает версию о том, что переданный ему предмет взятки он присвоил, а соответствующее должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в негосударственной организации, выполнило действия в интересах взяткодателя по другим причинам (в частности, в силу того, что просто по закону было обязано их выполнить либо выполнило «бескорыстную» просьбу посредника в связи с наличием между ними родственных, дружеских или других неформальных отношений).
Такое объяснение посредника в ряде случаев может соответствовать истине[95], в других – преследовать цель исключить свою уголовную ответственность за совершение столь тяжкого преступления, как взяточничество (тем самым либо «взять на себя» мошенничество, либо утверждать, что в его действиях вообще нет состава какого-либо уголовно наказуемого деяния); наконец, преследовать цель, и как показывает практика, в таких случаях зачастую успешно достигаемую, исключить уголовную ответственность взяткополучателя, особенно если тот занимает ответственное должностное или служебное положение;
• зачастую взятка дается за совершение в интересах лица, ее дающего, действий, носящих законный характер;
В силу повышенной сложности решения вопроса о законности действия и расследования фактов «коррупции по закону» некоторые из связанных с ними проблем более подробно будут рассматриваться в следующем параграфе данной работы.
• активное противодействие расследованию этих преступлений, на что при криминалистическом анализе взяточничества нельзя не обратить особого внимания. Оно, что очевидно, прежде всего оказывается лицами, непосредственно причастными к преступным действиям (взяткополучателем, посредником, взяткодателем). Причем с учетом, как правило, предумышленного характера этих преступлений, весьма развитых интеллектуальных и других личностных качеств этих лиц такое противодействие носит весьма изощренный характер[96].
Попутно заметим, что, верно обращая на это внимание, Н. Подольный формулирует положение, которое при всей своей ригористической бесспорности иначе как благим пожеланием назвать нельзя: «Всегда особенно важно, чтобы следователь по интеллекту превосходил обвиняемого (подозреваемого), иначе расследования, в собственном смысле этого слова, может не получиться» [97].
В ряде случаев следователи расследуют уголовные дела и в отношении академиков, докторов наук, министров, олигархов и т. д.; вряд ли от следователей можно требовать, чтобы они по интеллекту их превосходили. Иное дело, что интеллектуальные качества следователя, по мнению специалиста в области юридической психологии М.И. Еникеева, чьи слова цитирует в своей статье Н. Подольный, «должны отвечать требованиям практического ума».
Кроме того, нельзя не учитывать, что не менее активное противодействие расследованию взяточничества могут оказывать и так называемые непрямые участники совершенного преступления. Данные лица в таких случаях могут оказывать противодействие из различных побуждений: личных и (или) служебных связей с тем или иным фигурантом по делу, корпоративных интересов, более того, «круговой порукой должностных лиц государственных органов»[98], предположений (в том числе ошибочных) о возможности и их ответственности в рамках расследуемого дела. Характерный пример последней мотивации оказанного противодействия со стороны таких лиц приводит в уже цитируемой нами статье Н. Подольный.
Сотрудники районной администрации по указанию своего начальника в полном соответствии с законом оформили документы на получение неким гражданином права на застройку земельного участка, за что этот начальник получил от потенциального застройщика взятку, о чем данные сотрудники даже не знали. Тем не менее именно эти лица противодействовали расследованию, в частности пытались создать обвиняемому алиби. «Такие их действия, – пишет автор, – были обусловлены, во-первых, тем, что они находились в подчиненном положении по отношению к лицу, получившему взятку, и, во-вторых, совершенные ими законные действия, после того как им стало известно, что за их совершение была получена взятка, приобрели для них иную, негативную окраску, в силу чего у них сложилось представление, что их могут привлечь к уголовной ответственности»[99].
Приведенные выше диспозиции рассматриваемых уголовно-правовых норм и отмеченные криминалистически значимые особенности, связанные с их реализацией, в целом и предопределяют специфику типового механизма совершения этого преступления, а потому и типового механизма следообразования от взяточничества. А это, в свою очередь, позволяет выделить статические (стабильные) объекты[100], на которых возникают следы от взяточничества (и саму сущность этих следов). В силу значимости этого положения вновь перечислим их:
1) документы, в которых отражается действие или бездействие (законное или незаконное) взяткополучателя, выполненное в интересах взяткодателя. При этом под такими действиями с учетом диспозиции данных уголовно-правовых норм следует понимать и те, которые свидетельствуют об общем покровительстве или попустительстве по службе (например, необоснованные поощрения либо, напротив, «безнаказанность» за совершенные дисциплинарные проступки).
И тут же в этом контексте напомним (и проиллюстрируем данное положение кратким примером) один из постулатов общих положений криминалистической методики: отсутствие необходимого следа от действия – тоже след. Такими «негативными» объектами в данном случае является отсутствие необходимых документов, подтверждающих правомерность совершения субъектом действий в интересах этого лица;
Переехавшему из Грузии в г. Воронеж Крузашвили одним из районных ОВД был выдан российский паспорт. Однако никаких документов, которые бы подтверждали правомерность наделения этого лица российским гражданством, при расследовании данного факта (как одного из эпизодов преступной деятельности сотрудников милиции) в ОВД обнаружено не было.
2) предмет взятки и связанные с ним другие объекты, на которых отразились следы, свидетельствующие о происхождении этого предмета и о «переходе» его из собственности или владения взяткодателя к взяткополучателю;
3) память лиц, участвовавших в совершении этого преступления (взяткополучателя, взяткодателя, посредника), а также причастных к выполнению действий, выполненных в пользу взяткодателя по требованию или указанию взяткополучателя.
Сразу скажем, что в связи со столь ограниченным числом следовоспринимающих объектов в результате взяточничества, с изощренностью модификаций типового механизма совершения этих преступлений, предопределенных, как сказано, личностными особенностями их субъектов и криминальными ситуациями, для их уголовно-процессуального исследования повышенное значение приобретают косвенные доказательства. Они формируются на основе следов на объектах, свидетельствующих о существовании вспомогательных, побочных фактов, имеющих логическую и (или) причинно-следственную связь с прямыми доказательствами. К таковым, в частности, можно отнести: средства и источник приобретения предмета взятки; место и обстоятельства встречи (встреч), связанные с переговорами о даче взятки и ее передаче, и т. п.
Каждый такой косвенный факт сам по себе напрямую не подтверждает (или не опровергает) версию о даче/получении взятки, но совокупность таких фактов в их логической связи делает соответствующую версию убедительной, доказательственной. Приведем для иллюстрации этого положения примеры из следственной и судебной практики.
Ермолова заявила (а затем дала соответствующие свидетельские показания), что год назад она дала взятку в размере 200 тыс. рублей декану факультета Асанову, который после этого обеспечил зачисление в число студентов ее сына, недобравшего несколько баллов на вступительных экзаменах.
В ходе допроса (проведенного по алгоритму, который будет изложен ниже) Ермолова пояснила, что деньги на взятку она занимала у своих родственников и знакомых (указав, у кого именно), каждому из них объясняя, для какой цели ей срочно понадобились деньги. Взятку Асанову она передавала в его служебном кабинете; по предложению следователя Ермолова описала мебель, находившуюся в кабинете, и составила схему ее расположения.
Лица, названные Ермоловой, подтвердили, что она, занимая у них деньги, объясняла, что они требуются ей для дачи взятки в размере 200 тыс. рублей для поступления сына в институт. Осмотр места происшествия (кабинета декана) подтвердил, что и сама мебель, и ее расположение полностью соответствуют составленной Ермоловой схеме.
Эти сведения носили характер косвенных доказательств: Ермолова могла занять деньги у свидетелей, но не отдать их Асанову; она могла посетить его кабинет, но не в связи с дачей взятки. Однако в совокупности с такими прямыми доказательствами, как показания Ермоловой, документы, свидетельствующие, что ее сын и еще два абитуриента, недобравшие необходимое количество баллов, были зачислены в число студентов, указанные сведения убедительно свидетельствовали об обоснованности обвинения Асанова в получении взятки, за что он и был осужден.
Противоположный пример – об использовании подобных косвенных данных стороной защиты – приводит С.А. Машков.
В качестве довода в свою защиту подсудимый, бывший судья Александров, использовал то, что свидетели – взяткодатели давали противоречивые показания в отношении наличия и расположения отдельных предметов мебели в его кабинете (в который свободный доступ ограничен и в котором они, согласно их показаниям, давали взятки), что, по его мнению, свидетельствовало, что взяткодатели вопреки их утверждениям в нем не бывали, а потому, следовательно, не могли передать ему взятку в указанных ими случаях[101].
Вариации и модификации приведенных выше типовых механизмов преступления и следообразования в результате его совершения (как и всех других преступлений криминалистически определенных видов, о чем говорилось выше) обусловливаются двумя факторами: личностью субъектов преступления и криминальной ситуацией его совершения.
В связи с этим вновь в первую очередь напомним, что, являясь должностными лицами или занимая управленческие должности в негосударственных организациях, взяткополучатели (а зачастую и взяткодатели, и посредники) чаще всего имеют весьма высокое и разностороннее общее и специальное образование и серьезную профессиональную подготовку. Это обусловливает избрание (и изобретение) ими весьма завуалированных способов как выполнения действий в интересах взяткодателей, так и получения самого предмета взятки и последующей легализации его происхождения – вплоть до прогнозирования линии своего поведения в случае возникновения необходимости дачи объяснений по этим обстоятельствам правоохранительным органам.
Говоря об этом, здесь мы не имеем в виду взяткополучателей из числа нижнего или среднего служебного/должностного или управленческого персонала, таких как, например, сотрудников ГИБДД, службы судебных приставов и т. д. Хотя…
Полуанекдотичный случай из правоохранительной практики Ленинградской области (советских лет) некогда, более тридцати лет назад, рассказал автору известный российский криминалист профессор И.Е. Быховский.
Как стало известно сотрудникам органа дознания, инспектор ДППС (тогда – ГАИ) освобождал останавливаемых за нарушение правил дорожного движения водителей от наказания после того, как проштрафившийся водитель заказывал для него в ближайшем кафе стакан высококлассного коньяку и закуску (оплачивая, естественно, стоимость заказа).
После «принятого» инспектором ГАИ четвертого за день 200-граммового стакана коньяку (факты «восприятия» фиксировались с помощью технических средств) было принято решение его задержать, сняв с дежурства по причине нахождения в нетрезвом состоянии. Проведенное после этого медицинское освидетельствование показало, что инспектор… абсолютно трезв.
В процессе расследования выяснилось, что инспектору буфетчица кафе наливала… чай, который оплачивался водителем как дорогостоящий коньяк, стоимость которого затем буфетчица передавала инспектору ГАИ ежедневно после окончания его дежурства на посту[102].
Криминальные ситуации взяточничества[103] варьируются в весьма широком диапазоне. Наиболее известные из них следующие: