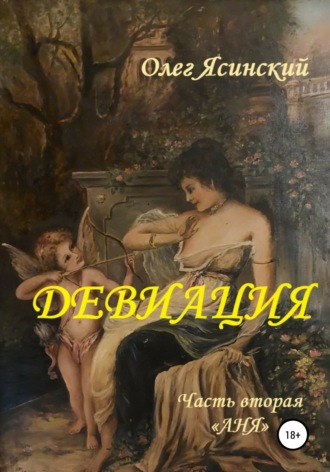
Олег Валентинович Ясинский
Девиация. Часть вторая «Аня»
Уже дома, немного развеяв сладкий дурман, полистал злосчастную «Медицинскую энциклопедию», а затем «Сексопатологию». С пьяным восторгом убедился, что моя перверсия гораздо разнообразнее, чем думал до встречи с Алевтиной, потому как простирается она в мрачные глубины, где обитает Демон, где желаю не только Аню, но и Алевтину, а лучше – их обеих. И если первое – нельзя, потому, что нельзя, а третье – из области ненаучной фантастики, то второе – вполне возможно.
Ноябрь – декабрь 1989. Городок
С того визита в библиотеку началась моя двойная, вернее – тройная жизнь.
В первой жизни я ходил в школу, преподавал историю, готовил торжественные линейки, утренники и вечера. Дискотеки оставались запрещёнными, но мне уже было без разницы, поскольку нынешние желания простирались в иную реальность.
В первой, витринной жизни, я читал книги, практиковал уединённые спиритические сеансы, участвовал в заседаниях бюро райкома Комсомола, куда меня избрали после иудиного отречения от Ани. К чести Физички, сор из школы она не вынесла. Городецкая общественность так и не узнала о моих несовершённых грехах.
Во второй, тайной жизни, я заходился ревностью к Ане. Казалось бы, какое мне дело до восьмиклассницы, которую сам отвадил? «Ничего путного с нею не сложилось бы!», – заклинал Гном. «Тем более, дружишь с её мамой…», – напоминал Пьеро. Однако неисповедимы были желания моей многогранной личности, в которой сначала хотел разобраться, но потом оставил затею ввиду неисполнения. Я принимал происходящее как данность, а она, эта данность, щедро дарила сомнения неуспокоенному сердцу.
После откровений с Алевтиной Фёдоровной, молчаливая ненависть Ани ко мне прошла, сменилась равнодушием. Никаких, даже деловых отношений, между нами не случилось. Она, как и прежде, игнорировала школьные мероприятия. Когда мы случайно сталкивались в коридоре или на школьном дворе, Аня нарочито официально здоровалась, называя меня по имени-отчеству. Но это было не самым страшным.
Гораздо ужаснее терзали сердце коварные перемены в Анином облике. Её школьное платьице чудесным образом сузилось и теперь плотно облегало точёную фигурку, а длина подскочила сантиметром на пятнадцать и едва прикрывала попку.
К тому же, до меня доходили школьные сплетни, возможно намеренно доносимые, что Аня флиртует со старшеклассниками, зажимается с ними по углам, каждый вечер ходит на свидания, а по выходным – на дискотеку в Дом культуры, где тусуется отвязная городецкая молодёжь.
Невольно поглядывая на девочку в школе и ревниво внимая пересудам, я не находил места, не спал ночами. Воображение рисовало стыдные виденья по Юркиным сценариям с Аней в главной роли. О! какие это были видения: яркие, со звуком, запахом и цветом, даже вкусом – вязким, чуть солоноватым.
Я скулил ночами и страшно жалел, что не решился переступить черту, когда она, эта черта, мягко-податливая, сама ложилась под ноги. А кто-то, более решительный, черту переступит и будет жить дальше, радоваться, а не стыдливо возносить молитвы ветхозаветному персонажу, а затем царапать до утра стихи, посвящённые недоступным бугоркам и впадинкам развратной нимфы.
Героиней моей третьей жизни, ещё более таимой, потому, что не вымышленной, была Алевтина Фёдоровна. Шифровал я эту жизнь от всех, даже от Юрки, хоть он нашёл бы определённую прелесть в моих инцестуальных побуждениях.
Вынужденный визит в библиотеку обернулся воскрешением страстей книжной юности. Если не считать пьяного бреда в ночь после встречи с Алевтиной, первоначально они проявились смутным желанием, заведомо невыполнимым, словно к дикторше в телевизоре. И не будь обречённой привязанности к Ане, умноженной чувством вины, возможно б минула меня беда. Но теперь, на радость Демона и ужас остальных персонажей Зоопарка, мать и дочь соединились в один образ, переплелись в больном воображении и являлись двуединым объектом вожделения.
Всё молчаливей и грустней становилась осень, но в мой ущербный мир пришла весна. С началом ноября зачастил я к Алевтине Федоровне. Каждодневно, после уроков, будто исполняя обряд, шёл в библиотеку. Чувствовал, как Алевтина ждала моего прихода. Постепенно её деловые костюмы и платья стали наряднее, теплые колготки сменились капроновыми. Да и сама она похорошела.
Первую неделю ми сидели через бюро, беседовали. Зачастую о книгах или невиданном бардаке, который творился на просторах когда-то великой Страны. Порой, окольными путями, полунамёками, я расспрашивал об Ане, но получал такие же окольные ответы, в которых сквозили ревнивые нотки. Не желала Алевтина говорить о дочке. Только и выведал, что Аня шитьём занялась, юбки по моде телевизионной кроит да гулять бегает, а под окном свистуны свистят, на свидания зовут. Лучше бы того не знать.
На следующей неделе, в день падения Берлинской стены, мне, удалось выманить Алевтину из-за стола по причине просмотра альбома репродукций Древнеримской живописи. Во время обсуждения и экскурсов в мифологию, мы сидели на сдвинутых стульях, положив альбом на колени: на мои, и на её. Мы прижались плечами, затем бёдрами. Алевтина пахла простенькими духами и стиральным порошком, который раздавали бюджетникам как гуманитарную помощь (маме тоже, потому и определил).
Смущённая Алевтина сначала пыталась отодвинуться, затем смирилась. Поняла, что я не намерен увеличивать дистанцию.
Правой рукой, по которую сидела Алевтина, я медленно, чтоб не спугнуть, легонько охватил её за талию, выщупал под шерстяным платьем поясок колготок. Поглаживая левой рукой глянцевые формы древнеримских богинь, пальцами правой, синхронно, как бы случайно, прощупывал упругую ленту пояска и возле него, не решаясь опуститься ниже.
Алевтина не отталкивала, будто не чувствовала. И лишь когда я, вроде поправляя съехавший альбом, коснулся внутренней стороны её бедра и подал руку немного вверх, вскочила со стула, вспомнив, что у неё в запаснике есть альбом репродукций «Искусство Возрождения» московского издания семьдесят седьмого года.
В тот день больше ничего не случилось. Алевтина принесла новый альбом, положила мне на колени, но сама ушла за бюро, сославшись на необходимость заполнить несколько формуляров, отложенных с утра.
Встречи продолжались, приобретали форму обряда, нарушаемого редкими будними посетителями. Мы сначала говорили на окольные темы. Я спрашивал об интересных книгах, или Алевтина сама предлагала альбом огромных размеров. Затем я шёл на «своё место», она приносила альбом, осторожно опускала на мои колени, подсаживалась на соседний стул, соблюдая дистанцию. Мы начинали рассматривать книгу, но поскольку Алевтине приходилось наклоняться, чтобы обсудить иллюстрацию или цитату, то постепенно она пододвигалась. Книга ложилась на колени обоим.
После ритуального воссоединения, умные речи замолкали. Начиналась молчаливая игра под шелест страниц и копошение под ними. Мои руки становились напористее, но допускались лишь до определённых границ.
На третьей неделе визитов я достиг заветной детской мечты и потрогал её ТАМ (правда, лишь через двойную преграду). Как и полет Гагарина, первое касание длилось совсем не долго, но стало началом к покорению неизведанного пространства, потому как Алевтина почувствовала, где я дотронулся, однако не сразу убрала мою руку и даже чуть развела колени.
Несомненно, мои ощущения оказались не столь восхитительными, как если бы случись семь лет назад, но это была победа. По такому случаю я ввёл «День трогания» в перечень памятных дат Леанды, и посвятил хвалебную оду достижению недостижимого.
Путь к звёздам был проложен. Постепенно оказалось доступным пространство под платьем, исследуемое легкими касаниями. Становилось забавным состязанием, когда она ловила коленями мою руку, будто взаправду зажимала, не допускала выше, но не удерживала, обречённо расслабляла ноги, порывчато сопела, отворачивала голову, отдавалась на волю победителя. А я неотвратимо шёл до конца, где, дотронувшись, замирал на время, пытаясь вжаться плотнее, почти чувствуя горячую мягкость.
Порой от резких движений альбом фиговым листком падал на пол, являя смущённым любителям живописи бесстыдную длань меж разведённых ног под задранным платьем. С молчаливым пониманием книга ложилась на место, всё начиналось сначала и, при благоприятных обстоятельствах, длилось до закрытия библиотеки.
Осязая Алевтинины тайны, я прикрывал глаза, перемещался в прошлое. Представлял себя тринадцатилетним читателем, который пришёл за книгой и смог увлечь молодую библиотекаршу за книжные полки, властно усадить на колени и нырнуть смелой рукой под подол. А она, скромница, исходила стыдливым румянцем, но не смела отогнать настойчивого мальчика, который награждён грамотой районного общества книголюбов.
Чудным в наших играх был обет молчания, не нарушаемый по такому же молчаливому согласию. Ни Алевтина, ни я, в реальном мире не вспоминали, что происходит после того, как очередной альбом ложился на колени.
Лишь однажды, во второй половине ноября, Алевтина запретила мне приходить несколько дней. Не послушал, пришёл, но был отослан с отчаянным упреком: «Я же просила!». Сначала даже обиделся, не получив привычную порцию эндорфинов. Однако до меня дошло, или Гном подсказал, почему женщины раз в месяц не допускают любовников.
А именно Алевтининым любовником я себя считал. И особо сладко понималось, что пасусь под юбкой у ЧУЖОЙ жены, о которой мечтал с отроческих лет, осуществляю заветные желания. И она ДАЁТ мне трогать там, где нельзя трогать никому, кроме мужа. А мне можно!
Порою представлял, что это Аня. И что мы сидим у меня в келье, а ещё лучше – в школе, в пионерской комнате. И у неё там, под платьицем, всё так же устроено, только маленькое, упругое, ещё никем не троганное, оставляющее на счастливой руке такой же запах.
Моё завоевание подъюбочных пространств со временем натолкнулось на непреодолимый Рубикон. Любая попытка проникнуть за грань пояска колготок пресекалась вскакиваниями беспокойной библиотекарши в поисках новой книги. Затем она возвращалась смущённая, не смотрела на меня, садилась на место и с покорностью отдавалась проискам моих блуждающих рук. Но лишь до Рубикона.
Сначала наш тактильный роман я понимал как естественный путь к НАСТОЯЩЕЙ победе. Да только под конец ноября он завёл в тупик. Вроде безобидные игры обращались неприятной тяжестью внизу. И шёл я вечерами домой как плохой наездник, набивший причинное место, согнутый, на разведённых ногах.
А дома не читалось. Пребывая во власти Демона, будто одержимый, я отбрасывал книгу, метался по келье, падал на диван, приглашал в надуманную реальность Алевтину вместе с Аней. Измывался над ними, пока не наступал липкий финал, метивший невинные книги, конспекты и даже Гомера, глумливо смотревшего на страдальца.
Обладание Алевтиной превратилось в навязчивую идею, почти манию, в заветный Карфаген. И меня не занимало, что она – тридцатипятилетняя замужняя женщина, мать троих детей. Демон правил бал в моей порочной личине. Душа уже чувствовала колючие язычки адского пламени, сладковатый дым горящей плоти, но… Карфаген должен быть разрушен!
Начался декабрь. Рубикон оставался недоступным. Пересмотрев альбомы репродукций, мы садились за бюро и заполняли формуляры: я на стул, Алевтина мне на колени. Под прикрытием огромного стола ареол действий расширился, формуляры заполнялись криво, дрожащим почерком, но Карфаген стоял.
Однажды, увлёкшись исследованием, я нечаянно зацепил браслетом часов капроновые колготки – дефицит неимоверный. Пока распутывал, пустил широченную стрелку до колена. Алевтина лишь хихикнула в кулак да махнула рукой. Зато потом встречала уже без колготок. Видимо снимала до моего прихода – не шла же по морозу с голыми ногами.
Последствия досадной истории добавили интима в наши отношения, поскольку главная преграда исчезла. Теперь я чувствовал нежный бархат внутренней стороны её бедер и даже теплоту упругой тайны, которая оставалась тайной: стоило мне изловчиться и чуть просунуть пальцы, ощутить мягкую курчавость, как Алевтина тут же вспоминала об очередной нелистанной книге, убегала в подсобку.
Отчаявшись, я принёс ей стихи, написанные Дантовской терциной, где недвузначно намекал, что пришла пора презреть условности. Алевтина восхитилась образностью метафор, даже попросила на память, но волнообразный перехлёст рифмовки не смог растопить ледяное сердце Хранительницы Книжного храма.
Прошли две недели декабря. Мне предстояло готовить новогодний утренник для младших классов и вечернее представление для старших, а ещё выступление школьников в Доме культуры. Да только, в свете новых желаний, таланты мои враз отшибло. Лишь хватило вдохновения переписать избитые стишки о весёлой зиме. Раздал школярам, репетиций не проводил, дожидался окончания уроков, чтобы сбежать в библиотеку.
Дети чувствовали моё состояние, не резвились, как обычно, не шутили. Для них я превратился в непонятного скучного взрослого, которого необходимо слушать, но заветные тайны ему не доверишь, потому как не поймёт.
Аня участвовать в концерте отказалась, однако приходила на репетиции, тихонько стояла в стороне. Порою чувствовал её изучающий взгляд, полный недоумения.
Я не смог подойти к ней, заговорить, хоть Пьеро нашёптывал, что ледяное сердечко подтаяло. Да только Гном бурчал: то потепление – обычная ревность. Аня знает (не может не знать!), что зачастил я в библиотеку; она замечает (не может не замечать!) перемены, которые случились с мамой. И чувствует девичьим чутьем, чем вызваны перемены. Боялся представить, что твориться в её сердечке от того понимания.
Здравомыслящий Гном взял верх. Однажды, в предновогоднюю субботу, когда не нужно было идти в школу и нельзя в библиотеку (субботние визиты АФ запретила ввиду многих посетителей), а заоконный мир укутался белой мглою, оттеняющей темень моих мыслей, порочные желания предстали во всём неприглядном свете. Будто со стороны взглянул на них и ужаснулся.
Чем я лучше Юрки, который шастает по замужних и не замужних? Он хоть не притворяется, что пылает нежными чувствами.
А я – лицемер! Появился нежданно, свёл с ума порядочную женщину. Может, не совсем счастливую, но славную, по-девичьи наивную. Говорил как-то Юрка, что соблазнение женщины – дело быстрое и крайне простое, а соблазнить замужнюю и вообще – легче лёгкого. Только зачем?
Добьюсь своего, а дальше? Что смогу дать ей кроме торопливого соития в подсобке или в укромном уголке меж книжных полок? Замуж её не возьму. Вот и получается: поглажу приблудного котёнка по свалявшейся шёрстке, угощу колбасным обрезком, наиграюсь и выброшу за дверь.
На прошлой неделе встретил в гастрономе мужа Алевтины Фёдоровны – не знал, куда глаза деть. Он подошёл, поздоровался, начал об Ане расспрашивать, о делах пионерских. Зачем ему? – подумал. А потом дошло: он догадывается о моих похождениях в библиотеку. С виду обычный дядька, хоть и выпивает, говорят, и подгуливает, жену поколачивает. Мало ли горя в кошачьей судьбе – у многих так. Мне он чего плохого сделал? А я его дочку голой на руках носил, у жены под юбкой шастаю, оправдывая непотребство юношеской любовью.
Только ещё хуже мои ночные фантазии. Дед говорил, что мысли не безобидны: подумал – создал образ, всё равно, что наяву совершил. На астрале нет особой разницы. Потому если посчитать все придуманные сцены с Алевтиной и Аней в главных ролях, и желания порочные, даже неисполненные, то выходит – я пропащее Юрки.
И так мне гадко стало от тех раздумий. Опустился на колени перед иконой Спасителя, помолился. Не полегчало. Осуждающий лик прожигал душу.
Как теперь жить дальше?
Дотронулся Хранительницы – молчала.
Кинул монетки, записал, посмотрел в И-Цзин – гексаграмы путались, давали противоречивые ответы об ожидании, и о том, что всё впереди.
Начертил спиритический круг, спросил покойного отца. Тот ответил, что я лишь на пути к главному. Как – на пути? Эти страсти и боль – не главное? «Не главное…» – повторил отец, нанизывая буковки на острие иголки.
Намаявшись, решил сам разрубить гордиев узел. Завтра же.
Однако после обезболивания цветаевскими рваными рифмами, понял – так не сделаю. Аню уже оттолкнул, Алевтину Фёдоровну не смогу. Жаль её, бедную, поверившую, самую лучшую библиотекаршу в моей жизни.
Глава седьмая
Новогодняя ночь 1989 – 1990, Городок
Новый, девяностый год, встретил с мамой и Химичкой.
После выступления школьников в Доме культуры, когда до магической двенадцатки оставалось меньше часа, собрался тихонько раствориться в предновогоднем сумраке.
Жизнь не сложилась: Аня весь вечер строила глазки Ваньке из одиннадцатого; Алевтина Фёдоровна, которая была в зале, даже не смотрела в мою сторону, ворковала с мужем, примостившим на коленях младшенькую Галю. Я лишний на этом празднике жизни.
Окинув прощальным взглядом неверную Аню и равнодушную Алевтину, двинулся к выходу за сценой. Тут меня окликнула Мария Ивановна, весь вечер неотступно ходившая следом.
Подступила, решительно взяла под локоть и сказала, что никуда не отпустит. От Химички несло алкогольным духом. Уже начала праздновать – догадался я, потому не спорил. Лишь предложил пойти ко мне, а ни к ней, как предлагала Мария Ивановна.
Это решение Гном подсказал: нельзя обижать хорошую девушку, как и дурить ей голову, давать надежду. От созерцания Неверной и Равнодушной на праздничном вечере, сердце моё было разбито обидной ревностью. Теперь стоит пузырькам шампанского расковырять укромную норку, где заточён Демон – быть беде. И так накрутил узлов, навязал узоров, ещё Химичку впутывать – уже слишком. А дома мама, незнакомая для Марии Ивановны обстановка – хоть как-то убережёт от греха.
Мохнатый гад, напротив, обиженно подначивал, что девушка как раз ожидает такого поступка. Отмахнулся от Демона. Расчётливый Гном – мой советник в эту ночь, и в последующую рождественскую неделю. Я решил поставить окончательные точки в глупых романах, стать Эльдаром Расчётливым, отбросить амурные бредни и взяться за учебники, чтобы летом сдать экзамены в институт. Тем более, обе мои Музы, кажись, образумились.
Задумка относительно Марии Ивановны, почитай, удалась. В чужой квартире, пред мамиными очами, Химичка смутилась. Особенно после того, как обнаружила, что на правой ноге прорвались капроновые колготки и норовливый большой палец с неподстриженным сероватым ногтем, поминутно вываливался наружу.
Но праздновать победу было рано. Лишь только мама ушла к себе в комнату, а мы с Химичкой перебрались в келью – Демон вновь подал голос. Блеклые черты Марии Ивановны, зачарованные всполохами ёлочной гирлянды, обрели манкость. Девушка захмелело плюхнулась на диван, поддёрнула платье и я, вымученный Аней и Алевтиной, представляя, что это кто-то из них, уже, было, поддался: присел рядом, положил руку Химичке на колено. Она запрокинулась на спинку дивана, прикрыла глаза, изготовила некрасивые тонкие губы…
Спасла мама. Постучала в дверь, не ожидая разрешения, зашла. Не глядя на нас, открыла шкаф, взяла наугад простынь. Не оборачиваясь, вышла. Она видимо не предполагала, что мы так быстро перейдём к дивану, или предполагала – потому зашла. Она многое знает, моя необычная мама.
Несколько ударов сердца мы сидели неподвижно. Затем Химичка ожила, принялась смущённо натягивать на колени задранное платье.
Я поднялся, окинул взглядом Марию Ивановну: остроносый профиль, сутулые плечи, кривой палец, вылезший из прорехи. Она хороший человек, верный друг – пусть такой и останется.
Не желая обидеть гостью, бодро затараторил о случайностях, которые отводят нас от разного рода поступков. Предложил совершить паломничество в сказочную новогоднюю ночь, которая совсем не похожа на вчерашнюю, и которая исполняет желания.
Желания Химички явно не вязались с гулянием по городу, но спорить не стала. Не поднимая головы, принялась засовывать непослушный палец в колготину, зло поддёргивая со щиколотки – мол, ей теперь всё равно.
Пробуя развеселить девушку, затолкал её на кухню, упросил выпить на брудершафт бокал шампанского, затем второй, затем следующую бутылку. До той поры, когда мы в обнимку выпали из парадного в морозный сумрак, все печали прошли.
Мы дружно смеялись над глупыми снежинками, которые так косо летят и не желают ловиться ртом. Я чуть потискал Марию Ивановну, чем добавил радости и так уже радостному пьяненькому девичьему сердцу. Возле центральной ёлки мы играли в снежки, затем целовались в щёчку: «Как друзья!» – дурашливо пищала Химичка.
Затем мы отправились бродить Городком. Обошли центральные улицы, поздравляя с Новым годом встреченные компании, исходившие девичьим визгом, бенгальскими искрами и вселенской любовью. Мы гуляли заснеженным парком, прокладывая двуногие тропинки по белой целине.
Запыханная Химичка рассказывала о Белой лошади, покровительнице наступившего года, а ещё о примете: как встретишь Новый год – так его и проведёшь. «Потому, – говорила Химичка, – мы целый год должны ВМЕСТЕ допьяна пить шампанское, ходить улицами и целоваться в щёчку».
Я соглашался, обещал, а сам думал, как бы хорошо было пойти сейчас к Алевтине Федоровне и Ане, поговорить за новогодним столом. Сказал бы: шёл мимо – решил заглянуть.
Только Неверная и Равнодушная меня не ждут. У них свои заботы.
Начало января 1990, Городок
Два праздничных дня не выходил из Леанды. Смотрел «Песню года», повторы «Новогодних огоньков» и сочинял слова, которые скажу Алевтине Фёдоровне.
Я выдумывал прощальный монолог, подобающий нашему расставанию, даже записывал, в надежде заучить. Но слова, впрямь по Тютчеву, были всё лживые, распадались, теряли смысл и обращались уже не тем, что хотел сказать. К тому же, если Алевтина перебьёт или задаст вопрос, то моя стройная система обратится банальным лепетом.
Замучившись составлением бестолковых шарад, решил положиться на случай. Главное – нам нужно расстаться, а ещё важнее – чтобы Алевтина поняла. Я так не хочу её обижать.
В первый рабочий день, третьего января, пошёл в библиотеку. Посетителей не было.
Заулыбался, как обычно, но сел не на «своё место», а примостился у стеночки, на одиноком табурете, который подставляли, чтобы достать книгу с верхней полки. Алевтина Фёдоровна виду не подала, принялась расспрашивать о впечатлениях новогодней ночи.
Пряча липкую робость, я затараторил о выступлении школьников в Доме культуры, упомянул Химичку, с которой встречал Новый год, а затем бродил улицами.
Алевтина насмешливо заметила, что с молодыми учительницами в новогоднюю ночь не по улицам нужно ходить, а в уютной комнате на диване телевизор смотреть, или без телевизора, но на диване.
Улыбнулась своим словам, подмигнула. Заметил: ревниво подмигнула, неравнодушно.
Защемило у меня под сердцем печалью, любовью-невозможностью. Я б от неё с того дивана никуда не ушёл, не топтался бы перед Рубиконом, не смотрел издали на недоступный Карфаген. И почему-то кажется, поступи я так – не противилась бы, смирилась…
Нельзя. Уже нельзя. Решил и скажу.
Настроился, даже набрал духу для смелости, но Алевтина будто чувствовала.
– Почему такой серьёзный? – спросила тревожно. Голос дрожал.
– Я вас на концерте видел. С мужем и младшей дочкой, – замявшись, взболтнул глупость. Причём тут концерт и дочка? Нам нужно расстаться!
– Видела, как пялился. Не стоило при людях, – Алевтина опустила глаза. – Мы с тобой, вроде как…
Зарумянилась, отвернула голову, так и недосказала запретного слова: «любовники».
– А тобой интересовались… – чуть помолчав, сказала Алевтина уже другим голосом, загадочным.
– Кто?!
«Милиция… – скукожился Гном. – Физичка нажаловалась, напридумывала? Но почему АФ так спокойно говорит?».
– Вернее, интересовались твоими стихами.
– Не последними ли? – облегчённо вздохнул я.
– Нет, конечно. Те лишь мои, – улыбнулась Алевтина. – Ранние твои показала.
– Откуда они у вас?
– Переписала. Ещё тогда. На память.
Не думал, что те несовершенные рифмовки кому-то нужны.
– Как в детстве – в «Заветную тетрадку». У тебя была «Заветная тетрадка»? – спросила Алевтина.
– Да.
У меня была. Там, с двенадцати до шестнадцати – все строчки о ней – неразгаданной Библиотекарше, которая так и осталась неразгаданной. А теперь хочу её бросить. Но по другому никак нельзя. Только хуже будет, если не достанет решимости.
– И кто сей загадочный читатель? – спросил витиевато, отгоняя противный страх.
– Читательница, – поправила Алевтина. И рассказала.
У неё есть племянница – Оксана, на два года старше Ани. Живёт в соседнем райцентре, там учиться в школе. Ещё осенью наведалась к ним в гости. Рассекретничались о любви, о безответных парнях, которые не могут понять девичьего сердца. Тогда, в опровержение расхожего мнения, Алевтина дала Оксанке тетрадку с моими стихами.
Оксана уехала домой, тетрадку увезла. А когда перед новогодними праздниками вновь навестила, то рассказала, что стихи ей понравились. Не только ей, но и всей её компании с вычурным названием «Клуб одиноких сердец». Возглавляет компанию, как водиться, Сержант Пеппер – учитель английского языка из Оксанкиной школы, по имени Игорь, и по замысловатому отчеству – Виленович.
Дальше Оксана рассказала, что Клуб у них не простой, а элитарный. Входит туда местная «золотая молодёжь», но «золотая» не в смысле денег, а в смысле культурных запросов. Как правило, занимаются члены Клуба подготовкой различных школьных мероприятий, кавээнов, дискотек, поэтических вечеров и тому подобных забав для подрастающего поколения. Но главным удовольствием в Клубе есть общение, поскольку все его представители – личности неординарные, под стать Сержанту Пепперу, который у них сродни духовного поводыря и Дона Карлионе в одном флаконе.
Кроме самого Пеппера, центрами вращения в Клубе являются две старшеклассницы, танцевальные примы, по которыми вздыхает вся школа, а также мужская половина благородного собрания – Оксана и Таиса. Девочки, в свою очередь, безнадёжно влюблены в Сержанта Пеппера, который, в свою очередь, женат.
Члены Клуба, как правило, собираются дома у Пеппера, поскольку его законная супруга, тоже учительница, доведённая востребованным мужем до равнодушия, перешла в другую школу, где отдельно живёт в общежитии.
Крутой бульон приправлялся тем, что Оксанка была дочерью высокого чиновника из райкома Партии, отличницей и будущей медалисткой, а Таиса – дочкой местного священника, настоятеля храма – отца Гавриила.
После знакомства с творчеством неизвестного пиита, Пеппер загорелся желанием подготовить «Вечер поэзии», взяв за основу мои стихи, и лично познакомиться с талантливым самородком, кропающем в одинокой экзальтации самобытные вирши о неразделённой любви. И теперь, как говорила Оксана, Сержант Пеппер хочет пригласить меня, предложив почётное членство в Клубе.
Алевтина рассказывала. Я слушал, упиваясь больше интонацией, чем смыслом. Мне льстило внимание, которое проявили неизвестные одинокие сердца и их Поводырь, только иная печаль терзала сердце. Я не отчаялся произнести задуманное и боюсь, так и не отчаюсь. Потому, что люблю этот голос, который совсем не изменился с поры книжного детства. Потому, что его нельзя любить, и придётся уйти без прощания.
Слова журчали, переливались, исходили то восхищением, то надеждой, то гордостью за меня, осенённого Эратой. Но я знал – никакого не осенённого, а трусливого распутного сатира, который не может защитить свою любовь, даже не в силах сказать прощальные слова, спасая бедную женщину.
Я сидел на низком табурете, смотрел на Алевтину, умилялся её умилению, а сам подглядывал в проём между тумбами стола, где видел её ноги под шерстяным зимним платьем, видел бедра, обтянутые теплыми колготами, уходящими в подъюбочный сумрак, где уже никогда не буду.
Расстались тепло, обнялись на прощанье. Алевтина потянулась, отчаянно коснулась губами моей щеки, чего раньше никогда между нами не случалось. Поцеловал в ответ.
Когда уходил, уже знал, что к Пепперу не поеду. Одинокое сердце должно страдать в одиночестве, а не в Клубе себе подобных.
А ещё знал: больше в библиотеку не приду.
3-5 января 1990. Городок
Моей уверенности хватило на полчаса – пока шёл домой. В келье вернулись былые страхи: чем больше о том думал, тем явственней представлялось, что порядочные люди так не поступают. Достаточно начудил – теперь хоть уйти нужно по-человечески.
К тому же, не на Луну собрался. Рано или поздно пересечёмся на улице или в универсаме – как потом в глаза смотреть. Тем более, пятого января у неё день рождения, исполниться тридцать шесть. А Юрка, будто нарочно, привёз мне перед Новым годом в подарок свежайшее «белое» издание Анны Ахматовой, составленное из семи поэтических книг. И теперь уже окончательная капля, переполнившая чашу: Ахматова – любимая поэтесса Алевтины, которую она почти всю знает наизусть, как и я Рождественского. Порой мы состязались: кто больше прочтёт по памяти.
Уцепился за спасительную Ахматову. Решил, что пятого пойду к Алевтине, поздравлю. Она, как водиться, пригласит за стол по такому случаю. Мы выпьем, я осмелею и скажу о вынужденном расставании, сославшись на подготовку в институт. Этой придумкой и успокоился.
Четвёртое января перетерпел, а пятого нарядился, захватил подарок, бутылку кагора, купил по дороге девять хризантем и пошёл в библиотеку.
Всю дорогу вспоминал придуманные вчера поздравления, как всегда запутался. А ещё, отгоняя мерзкий страшок, всё более щемящий по мере приближения к заветному зданию, входил в образ милого друга, который идёт поздравить уважаемую (не больше!) женщину с днём рождения.
Не знаю, удался ли мой образ, но Алевтина непритворно обрадовалась, искупала лицо в хризантемах, а когда развернула обёртку на томике Ахматовой, то взвизгнула от восторга, как девочка вымечтанной кукле.
Была Алевтина в сером платье, с глубоким декольте, в котором, под золотым кулоном Козерога, проступала ложбинка меж приоткрытых грудей. Раньше этого платья не видел, как и кулона, потому догадался, что нарядилась Алевтина для меня, поскольку иных гостей, вроде, не предвиделось (сразу бы сказала, во избежание сюрпризов). К тому же была она без колгот. Ждала?
«Ждала…» – подсказал Пьеро, умилённо закатив глазки. «Ждала!» – согласился Демон, кивнув на голые колени.
Откуда знала? Мы же словом не обмолвились прошлый раз, не говорили о дне рождения.
– Я знала, что ты придёшь, – сказала Алевтина.
Подошла к бюро, положила книгу. Высвободила цветы из целлофана, поставила в вазу, наполненную водой.
Она и о цветах знала?!
– Знала, – ответила Алевтина, чем окончательно заворожила. – Женское чутьё. Но ты сначала не хотел приходить. Так?







