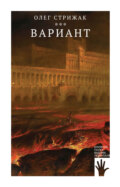Олег Стрижак
Мальчик. Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках
XV
Холодным и серым утром 21 октября 1969 года я вышел из сияющего стеклом подъезда Дома Прессы на сизую, голубую набережную Фонтанки…
(Я написал: утром, хотя, вероятно, стоял высокий день и даже начинал клониться к вечеру: жизнь в редакциях начинается не прежде полудня, и в театр мне нужно было к половине третьего часа дня; в те осенние утра я вставал поздно; и осенние утра в Городе: и высокие, солнечные и синие, и прозрачные пасмурные, легко длятся до вечера, дымных чёрных и синих сумерек; вот отчего у меня ощущение нескончаемого утра…)
Вышел на набережную: удачлив и весел, даже как-то дразняще весел и дразняще удачлив! ах, нечасто я так чисто и искренне нравился себе, как тем утром. Веселье моё кружило и торопило меня: как осенний нетерпеливый дух кружил медленно и уводил Город… всё, всё было прелестно: и нескончаемый праздник, и рецензия, что шла в завтрашний номер, и чудесный театр, что ждал меня, и чудесная женщина, дарованная мне этим утром…
Три четверти часа назад я весело вошел в Дом Прессы, чтобы прочесть рецензию на мою книжку; я очень любил Дом Прессы, всё ещё считавшийся новым, и входил сюда с удовольствием, потому что меня здесь любили.
В утренних коридорах гулко было, и полутемно, и линолеум влажно поблескивал. В комнате, нужной мне, горела настольная лампа, красиво оживляя утреннюю осеннюю пасмурность. Её яркий свет с несильными оранжевыми и зелёными тенями заливал утреннюю ещё прибранность письменного стола и худые и загорелые, обнажённые почти до локтей руки хозяйки, и загнутые (чтобы не испачкать руки чёрной типографской краской) запасные полосы: оттиснутые на серых, сырых ещё листах четвёртую и вторую страницы завтрашнего номера газеты (уже кое-где исчерканные). Длинными пальцами (волнующими) отводя привычным движением прядь волос со лба, хозяйка улыбнулась мне; уголки её губ в улыбке пленительно уходили вниз, и улыбка получалась женственной и печальной. Издали я любовался этой женщиной уже долгое время. Её худоба, печальность, вызывающая некрасивость, презрительность, ироничная злость: всё виделось мне прелестным. Женщины с искрою злости, как и женщины в печали, притягивали меня, женственная злость всегда вдохновляет (а печаль сулит благодарную нежность); и плевать я хотел на холёных, витринных красавиц, все они мелочно глупы; и юные девочки не занимали меня, от них детским мылом и возрастной глупостью несёт за версту. Вкус любви, в который входил я в ту пору, манил к неизвестному; я хотел уже было влюбиться в ту женщину, мне недоставало лишь молчаливого её позволения: я вышел из лет, когда с удовольствием мучатся неразделённой любовью. И в то утро конца октября, войдя в пасмурную, согретую приятным, низким светом настольной лампы комнату, я почувствовал в улыбке хозяйки, в звучании хрипловатого её голоса, что она действительно рада мне. Мы закурили; приятно курить в серый час утра с женщиной, которая тебя привлекает; чистое удовольствие слушать её умный, с изящной злостью, ироничный разговор, её мягкую, пленительную картавость, что так причудливо окрашивает ядовитую иронию городских и редакционных сплетен, и я длил удовольствие, глядя на её загорелые, уже побледневшие в ленинградской осени руки, наблюдая в ней высшее проявление женственности, когда женщина не заботится, чтобы что-то украсить или утаить в своей внешности, и предполагает, что её достоинства много весомей незначащих пустяков; в то, холодное, утро на ней был крайне модный вязаный балахон, который ничуть не скрывал её гибкого и худого тела и, напротив, являл его почти с непозволительной чувственностью. Я увидел, что и я ныне нравлюсь ей… и я придвинул к себе четвёртую полосу, вынимая золотое перо. Хвалебную рецензию на третье издание моей книги смастерил посредственный ленинградский литератор: сочинитель забытых повестей, в возрасте, достойном соболезнования, и с именем, убедительным лишь для редактора Газеты; когда я условился в редакции о рецензии, я сам просил литератора об услуге, рассудив, что четвертной гонорара и последняя возможность напомнить читателям, что он ещё жив, литератору не помешают, и даже выставил ему литр, который мы тут же и выпили (к властителям дум я обращаться не захотел. Властители пишут такие вещи очень неохотно, они думают о вечности, о семнадцатом томе посмертных своих собраний, куда войдёт и переписка с литфондом, и пишут рецензии о младших товарищах по перу крайне долго и крайне плохо, и болезненно переносят, когда их в чем-либо исправляют. К властителям я ходить с челобитьем не захотел); и литератор мой насочинял!..
Три абзаца я вымарал без раздумий. Затем вылетели хвост, зачин и кусок из середины. Может быть, литра на двоих было много, думал с неудовольствием я, и литератор мой чего-нибудь недопонял? Литератор средней руки похваливал меня так, словно я был тупое дитя, выучившее стишок Любит лётчик пулемёт и прочитавшее его с табуретки гостям; ещё несколько фраз я выправил с ходу, и задумался сумрачно: нужно было срочно (и тонко) исправить испорченную литератором рецензию текстом решительным и изящным; я весьма ценил изящество формулировок, когда речь шла о моём творчестве…
В четверть часа всё было исправлено; смущало меня лишь то, что все двести, даже триста строк приходилось переливать: не выйдет ли неприятностей в наборном цехе; я сегодня дежурю, лениво сказала она, перельют! что там?.. и гибким движением потянулась ко мне, всем гибким, прелестным телом, ничего страшного, мягко картавя, читая внимательно и очень быстро мои вставки и вычерки, можно правку принять, запах её волос, духи её нежным стоном прошли во мне, дверь!.. мягко картавя, проговорила она, прерывая мою жадность, и в голосе звучал смех. Коснулась моих губ волосами она не умышленно, читая мои вычерки, и то, что она не уступила моей ласке, грубой, а с тайной насмешливостью пошла ей навстречу, с трудом дотянулся я до ключа, всё переменило: женщина, не которую выбирают, а которая избирает сама, уже я стал её капризом, а не она моим. В дверь постучали. Губами я чувствовал её медленную улыбку…
XVI
Губами я чувствовал её медленную улыбку: ситуация её забавляла. И то, что я запер дверь, и обрушил (сущим медведем!) кипу бумаг с полированного стола, ей представлялось занятным. Злиться мне на неё было поздно… и вдруг она, звериным вывертом вывернувшись, прикрыв ресницами тёмные, вмиг переставшие смеяться глаза, взяла мои губы властно, как злым укусом, пронизав меня долгим, мучительнейшим наслаждением, и, насладившись жестоко моей дрожью, молча, упруго, уводя вниз голову, ушла.
Господи! милая… ведьма; чертовка; если, лениво, изученно целуя в губы, умеешь так пронзить и измучить…
(Тем временем женщина, вновь подаренная мне возлюбленная, повернув лениво плоский ключ, отперла дверь и, закурив, отводя любимейшим движением прядь волос со лба, глядела на меня с усмешкой, с прищуром.)
…то чем же одаришь в любви? – …и чтобы унять дыхание; унять ноющую жилу в животе, я присел, поднимая уроненные мной бумаги: и выпрямился, держа в руке машинописный, истрёпанный экземпляр пьесы Прогулочная Лодка, пьеса в трёх действиях. Имени сочинителя я вновь не запомнил, отвлечённый другим: поражённый тем, что в моей руке лежала именно та рукопись, которую майскими ночами читала моя очаровательная девочка, я ошибиться не мог, на титульном листе пьесы темнел кофейный кружок, пролив кофе, я невнимательно поставил чашку не в блюдечко, а на рукопись, пусть простит меня неизвестный мне автор, оплошность моя извинительна, серой майской ночью, и уж слишком рукопись была истрепана, чтобы обратить на неё внимание, когда девочка целует сердито и горячо… и проявившееся вдруг в кофейном пятне присутствие моей маленькой, ласковой, очаровательной злюки, присутствие её здесь, в пасмурной, утренней и осенней редакционной комнате, ярко освещаемой настольной лампой, и очень мешало мне, и придавало вкусу губ здешней хозяйки трудно изъяснимую прелесть.
– А, – услышал я ленивый, хрипловатый голос. – Пьеса… Ты читал уже?
– Едва начал, – ответил осмотрительно я (ленивое и очень ироничное ты жарко отозвалось во мне лаской и усмешкой).
– Бред, – картавя презрительно, очаровательно, и уголки её губ в презрении ушли глубоко вниз: – Мальчик, столкни лодку, я встречалась (лениво) с её автором: почти графоман, совершенно (презрительно и прелестно картавя) не чувствует мира; ничего примечательного не сочинит.
Я чуть усмехнулся, кинул рукопись на полированный стол, в круг яркого света с оранжевыми, зелёными тенями, на исчерканный моим золотым пером чёрный газетный лист (и почувствовал, что, как ни жаль, но пора уходить; возвращаться к рецензии незадачливого литератора значило бы явить дурной тон; уговариваться о свидании – тоже. Всё у нас с нею будет… когда время придёт). Коротко я простился; меня не удерживали.
XVII
…управляла мною беспечность; женщины любили меня; женщин было так много: прекрасных, различных, непохожих, что приходилось, со вздохом, откладывать на неизвестное после влюбленности и встречи; и о деньгах я не заботился, играя удачливо в карты, что составляло в ту пору мой важнейший доход; к тому же меня издавали.
Кончался октябрь; вторник, 21-е число. И, очерчивая легким взглядом ближнее будущее, я видел: мои новые книги, фильм, мою премьеру в театре (…её поцелуй ещё жил во мне: тянущим, сладким, томительным недомоганием, приглушённое желание мучило и забавляло меня; чёрт возьми; что за женщина; властительные, ироничные её губы означили начало чудесного… и думать о том было лень).
Кончался октябрь.
Влажный ветер, пришедший издали, из штормов осенней Атлантики, задирал тяжело хмурые, чёрные волны Фонтанки; ветер растрёпывал жестоко и холодно мои волосы, загибал полы распахнутой моей куртки. Мне приятен был ветер; его влажный и жёсткий холод лишь укреплял удовольствие жизни. Куртка на гагачьем пуху (в ту пору я неизменно был хорошо одет, даже очень хорошо, и возводил умение дорого и со вкусом одеться в категорию нравственную), тёмный красивый ворот сорочки, крепкие красивые башмаки тоже были удовольствием, как и осенний ветер; с непокрытой головой я ходил почти всю зиму. За всю жизнь я болел лишь один раз: простудился, когда, снежным и солнечным утром, долго нырял в быструю воду сибирской реки, чтобы зацепить тросом ушедший под лёд бронетранспортёр.
Гранитные, сизые и неровные, плиты набережной привели меня через сто шагов к каменному мосту, украшенному башнями, с висячими цепями. Каменные башни увенчивались золочёными яблоками. В сизости утра золочёные яблоки остро поблескивали, будто стянув в крутые свои бока текущее в воздухе свечение. Влево открылась осенняя, маленькая площадь; листья топорщились на осенней траве, мокром песке (и я с удовольствием шёл по листьям, приминая их) в сквере, устроенном посреди площади, вокруг бюста великого человека (тысячи раз проходил я тот сквер! и ни разу не поглядел внимательно на бронзовый бюст; и как он выглядит, я теперь совершенно не представляю); изящной улицей Росси, прислушиваясь к мурлычащему во мне удовольствию осеннего октябрьского утра, и удовольствию влюблённости, я вышел уже на другую, красивейшую в зыбком блеске осеннего утра, широкую площадь, где чернел за деревьями высокий памятник матушке императрице; и вошел в кривой, узенький переулок Крылова; меня влекла утренняя привычка: выпить. Коварства коньяка я в ту пору ещё не чувствовал. Утренняя, крепкая выпивка изощряла восприятие, чувственность, дарила дорогое ощущение налитости тяжёлой, дремлющей силой, уверенностью, весельем (легкомысленным отчасти); и на Садовой, против стареньких арок, галерей Гостиного двора я привычно ввернулся в щель. Щелью именовался крошечный бар ресторана Метрополь, втиснутый под рестораном, в закутке первого этажа. В утренний час щель душно, до изнеможения набита была девочками; бегемот бы издох от их интимного щебетанья и дыма их сигарет; тут водились умные девочки из Публички, весёлые девочки из Гостиного Двора и очаровательные девочки неведомой занятости. Коньяк был дёшев, кофе тоже; девочки брали рюмочку коньяку за двадцать копеек, чашечку чёрного кофе и, изящно куря, за двадцать семь копеек вели красивую жизнь (впосдствии кофеварку упразднили, коньяк вздорожал, и девочки исчезли. В утренней тёмной щели стало пусто, чисто, приятно…). Меня здесь знали уже много лет, что тебе, Серёжа? и какие-то девочки уже глянули, из-под чёрных ресниц, на меня с интересом (мучительное недомогание желания вновь волною прошло во мне); жаль, меня ждали в театре; кивнув то же, что и всегда, я, поверх милых, и гладко причёсанных, и продуманно растрёпанных головок, взял тяжёлый, приятный всей тяжестью и округлостью тёмным коньячным цветом и медвяным, золотистым духом фужер (и конфету; я не любил затемнять вкус коньяка лимоном, тем более в осеннюю пору).
XVIII
В театре было чудесно; утренний свет поздней осени лился сквозь театральные, шелковые шторы; и запах осени чувствовался всюду. В театре было нарядно, празднично, душисто. В утреннем фойе все были любезны, знакомы, красивы, милы, здесь царили актёрские привычки, и женщин, изящных, весёлых целовали в щёчку, в изгиб шеи (в запах духов), или целовали руку, все здесь были родня, и все выглядели очаровательно утренними, ещё не вполне проснувшимися, боже мой, как я любил в ту пору утренний театр!.. и входя в нарядное фойе, я увидел: …выгнув прелестную спинку, моя очаровательная девочка говорила, непринуждённо и весело, с моей красавицей женой; их, очевидно, познакомили только что (и ожидал я этого уже давно); жена моя выглядела, безусловно, красивей: изысканней, умудрённей, прекрасней; и всё же, всё же, в чём-то она уступала девочке; и это видели все; в изгибе её губ, тёмном взгляде жили внимание и не идущая к ней заинтригованность (чем можно увлечь внимание моей жены?), и тёмное, из-под тёмных ресниц, её высокомерие уже было зависимостью, девочка же, выгнув ленивую спинку, легко и точно поместив в воздухе плечики, была совершенно и непринуждённо свободной: ни малейшей заинтересованности в ком бы то ни было; её непринуждённость и беспечная уверенность были почти оскорбительными (для моей жены; для меня); и говорили они о какой-то Елене, Елена, звучный, актёрский голос девочки, через год… я живу в её квартире; за шторами Летний сад… балетный станок, и голос моей жены, удивлённо и чуть недоверчиво, разве Елена занималась балетом, подойдя к ним с извинениями, что помешал разговору, я поцеловал девочку в подставленную мне невнимательно щёчку, и с искренней любовью коснулся губами руки моей жены (духи!), гуляешь, мил друг, небрежно проговорила жена, поворачивая красивую голову и небрежно разглядывая людей в фойе, как мальчик, право. Вечные проказы, насмешливо поклонившись, я отошел, просмотр собирал публику значительную, готовилась не просто премьера, но театральное событие, многих в фойе я знал, актёры, режиссёры, драматурги, публика из всяких управлений, ведающих театрами, прошёл горделивый Щелкунчик и вечный приспешник его, Попугай; гибкая и обворожительная Мила, завлит в театре за Фонтанкой, протянула, смеясь, руку для поцелуя (всё, давно уж, устраивалось к тому, чтобы мы с Милой любили друг друга, но вечно что-нибудь служило помехой); когда же я, с искренним сожалением, доберусь до тебя, Мила? поспеши, милый, ждать устану, смеясь; и озабоченный, как майский жук, завлит в театре на Невском налетел на меня, когда же вы напишете для нас пьесу. Пьесу. Вы для Ленфильма, я знаю (с сожалением я увидел, что Мила уже присоединилась к девочке моей и жене: …Елена, чудо Елена!..), знаю, знаю, для Ленфильма сочинили комедию. Для нас. Пьесу. Пьесу. Не притчу. Пьесу; когда, в четверг, отвечал я, смеясь; а что, напишу для них пьесу; и Мишенька, лучший друг (всему Городу лучший друг), актёр из Комедии, забормотал вдохновенно мне в ухо, уведут твою девочку, уведут (пить с утра нужно меньше! тебе вечером играть!), уведут, вдохновенно и мрачно пророчил Мишенька, действительно уже крепко поддатый, в деревеньку Москову уведут, меды пить, на золоте едать, заслуженной будет. Видишь, кто?.. я повёл взглядом и увидел **, главного режиссёра знаменитого московского театра, завистники, Миша, украшают жизнь, Мишенька хохотнул и развинченной своей походочкой отбрёл, худсовет, звучало в фойе, худсовет. Худсовет. Главный… Смольный… в причудливом отражении зеркала увидел я нарядное кружение, где каждый был если не знаменитостью, то творческой личностью; зеркало резко выделило меня: излишне широкие плечи, тяжёлая и высокая, легко подвижная фигура (в ту осень в моду, вместе со стилем джинс, входили длинные, гибкие мальчики с плечами шириной со спичечный коробок…); и что-то в зеркальной глубине дрогнуло, блестящее кружение застопорилось, ну, пробурчал с удовлетворением Мишенька, работяги уже клюкнули, отчётливый запах дурной выпивки, значит, будет в премьере порядок. Можно и начинать, портвейна, или чёрт там знает чего за полтора рубля мелочью, коснулся меня. Трое работяг, монтировщиков, в чёрных, грязных ватниках шли через нарядное фойе к высоким, белым с позолотою дверям, что вели за кулисы.
(Три витязя бубновых!..) шедшего впереди, мальчишку, я разглядеть не успел, и видел только его затылок, лохматый, упрямый и русый. За ним шёл грузный и чёрный, взъерошенной птицей, и всё не мог оторвать взгляда от пленительной моей девочки. Третий был лыс, пьян: старичок сморчок… тихо я присвистнул. Чудовищная сила гнездилась в том старичке; увидеть это мог лишь тренированный глаз; ой не хотел бы я встретиться ночью в переулочке с таким старичком.
…жена моя (в бешенстве! прикусив губу) отвернулась; девочка откровенно забавлялась; но чёрный, взъерошенный глянул от дверей ещё раз, и девочка сдвинула угрюмо бровки, чисто рогожинский взгляд, звучно и сумрачно говорила она, когда я подошёл, встревоженный. Жена моя, юная чистая красавица, принуждённо рассмеялась: …мерзавец, мальчишка!.. взгляд! гм, нашел я что промолвить, смущённый: не учинять же из-за мальчишки историю. В приличных театрах, начал я, милый критерий приличия театра, холодно заметила моя девочка, величественные пожилые дамы, торговавшие голубыми программками, отворили белые, с золочёной лепкой, двери, и утренняя публика, любезно переговариваясь, потекла в мерцающий позолотой зал.
XIX
…ещё раз! Ещё раз: проход монтировщиков, пожалуйста; что-то в шествии их заключалось, чего я тогда не понял: важное! Их шествие, гулянье через утреннее, изящное фойе… Старичок не идёт в счёт. Истрепанный ватник, лысая, жутковатая голова. Узкие, висящие плечи, устрашающий бычий загривок, и чудовищной величины и тяжести клешни; старичок приял свои восемьсот, и приветливо пришепётывал: частушку матерную; старичок Добрыня не в счет. Витязь. Гиревик. Старичку до всех, лощёных, в бархате, дел никаких нет. У старичка личный, и интереснейший мир. Тревожный чёрный, взъерошенный (углём жгущий, рогожинский взгляд!), сумевший взглядом ввести мою девочку в угрюмость; что между ними, взъерошенным и моей девочкой, произошло?.. а как они шли! нет, как они шли! Чёрные. Выпившие. Укрепили, значит, декорацию, вышли на угол, зашли во дворик, приняли Волжского, рубль шесть копеек фугас, придымили папиросочкой. Вернулись. Теперь начнут, сказал Мишенька, актёр. И точно: пришли эти трое, в чумазых ватниках; и белые, золочёные двери в мерцающий зал отворились. Главнейшими они были здесь, вот что. Шли, как в лесу. В упор никого не замечая!.. и две женщины-девочки, красивые, как длинные цветы, посреди фойе; и что? загадка в том, что… И всё же, шествие их через нарядное фойе переломило дымчатый хрусталик моего утра. Чего я испугался? Тревогой нехорошей пахнуло; загадка в том, что горящий угольем взгляд чёрного и взъерошенного был моей девочке исключительно понятен; и мерзкий мальчишка глянул на красавицу мою жену, как предъявил ей счёт; знал мальчишка о ней что-то, чего она ему не могла простить! вот с чего начало всё рушиться.
XX
В небольшом зале, где тёмный красный бархат, позолота, вечерний огонь люстр, ложи в лиловой тени пахли духами, пахли театром (грешной мысли не допуская о возможности существования поздней осени, луж, осин, дикого ветра, наводнений, мокрых метелей), занавес был раздвинут. Тёмная, почти пустая сцена обнажена.
Какой-то полог, в непонятных узорах, речная коряга.
Моя жена уверенно прошла к любимым своим креслам. Изучив, с лёгким прищуром, сцену, села, положив ногу на ногу, очертив тканью платья красивейшее, узкое колено, и скучающе развернула программку.
Зал наполнился едва ли на четверть; редкие островки изощрённых зрителей, профессионалов.
Жена, чуть наклонив красивую голову, читала внимательно перечень актеров. И, задумавшись с нею рядом о чём-то, я обнаружил вдруг, что мне совершенно не о чем говорить с ней. Гм!
…ты читала Прогулочную Лодку?
– Чушь, – отвечала жена небрежно. – Мальчик, столкни лодку; не о чем говорить.
– Почему же – все читают?
Жена улыбнулась, снисходительно. Любезный и ироничный говор в креслах не то чтобы стал громче, но переменился в звучании: в проходе меж кресел, выгнув пленительную спинку, точно предоставляя возможность любоваться собой, шла прелестная, презрительная моя девочка; и с нею рядом **; это и есть знаменитая твоя любовница, спросила с лёгкой усмешкой моя жена. Красивая девочка…
…красивая девочка. Умненькая. Скоро тебя бросит.
…не отчаивайся, – вздохнула небрежно она, дочитывая программку до имён осветителей и бутафоров, – зато, говорят, у тебя головокружительная любовь в Газете?
(…с-сучий город! огорчённо подумал я. Часу ведь не прошло! часу! четверть часа ходьбы и фужер коньяку…)
…тоже, думаю, ненадолго. Твоя утренняя избранница, прости, не любит сплетен.
– Я… пересяду, – охрипнув вдруг, сказал я.
– Да, – чуть утомлённо отвечала жена, – сделай милость; я сама хотела тебя попросить. Чтобы ты не мешал мне. Говорят, хороший спектакль.
Молча я встал; ушёл в последний, полутемный ряд (Говорят!..); и уселся там, так, что весь ряд заскрипел резной, глупой, бархатной роскошью под тяжестью моей (моей, и моего гнева). И закрыл, чтобы унять гнев, глаза рукой, придавив сильно пальцами веки: синие, нежные пятна возникли из черноты вместе с болью: неким облегчением.
– …простите, – с неохотой услышал я мягкий и улыбчивый, с хрипотцой, очаровательный женский голос (чтоб вы подавились все!).
Чудесная девочка, с великолепными, падающими на плечи и грудь длинными, выгоревшими волосами, в высоких сапожках, короткой юбочке. Волосы были небрежно заведены за ушки.
Ей очень к лицу была улыбка. Мягко улыбаясь: как будто провинившись и как будто (от смущенья) хмурясь, тоном маленькой избалованной девочки, всеобщей любимицы, любимицы театра:
– Простите; вы позволите мне пробраться? в углу – любимое моё кресло. Простите…
Излишне торопливо я поднялся (…у всех у вас любимые кресла!), привет, Ирочка, дружелюбно и мягко сказали из ложи, здравствуйте, тем же бурчащим и нарочито игрушечным (как у плюшевого медведя) голосом, и улыбаясь, отвечала она. Впервые без интереса глядел я вслед красивой девочке.