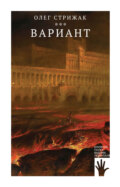Олег Стрижак
Мальчик. Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках
X
Утром, третьего дня, приключилось неприятное. Полыгалов опять мыл ноги в раковине для умывания. Крепкая рожа, трусливая и нахальная в одно время, глазки шныряют. Жизнерадостен. Неприятен мне с первого взгляда. Лезет с миской без очереди, когда к двери подвозят на железной телеге бачок со жратвой. Ему объяснили, что очередь по порядку, как койки стоят. Кивает; вечером история повторяется. Ему не уразуметь, для чего сидеть и ждать очереди, когда можно толкаться и лезть. Кажется, он здоров, пришёл на обследование. Крутит транзисторный приёмник во всю громкость; в палате же двадцать семь человек. Его любимая песня Вологда-гда. Горюет, что нельзя принести из дому магнитофон-стерео с колонками в десять ватт, послушать Вань, гляди-кась, попугайчики. В таких людях меня удивляет насекомая их убеждённость в своем праве на всё. И передергивает меня от его чистоплотности: моет ноги в раковине, где умываются. Трижды я делал ему замечание. Глядел, злобно, или насвистывал независимо. А третьего дня, утром, с неожиданной, животной какой-то злобой ударил мокрым полотенцем меня по лицу. Мне стало нехорошо. Пришёл в себя в палате, в постели. Врач сидел возле меня. Вставать мне снова нельзя. Полыгалова, в наказание, выписали. Теперь он гогочет дома. Крутит Попугайчиков. Моя выписка отодвинулась, кажется, в никуда. Врач меня утешает. Я умру здесь, умру…
Часто, подолгу думаю о телефоне, подчёркнутом красными чернилами в моей записной книжке. Жалею, что невнимательно сжёг книжечку вместе с рукописями. Почему-то со мной оказалась другая записная книжка, с различными выписками из книг (в последние годы я кое-что читал). Выписки занимательные: …Кто имеет право писать воспоминания? – Всякий. – Потому что никто не обязан их читать… Или: …этот роман был начат в надежде воздвигнуть своего рода ширму, которая отделила бы меня от чрезмерной любезности пассажиров третьего класса… вполне возможно, что читатель возьмёт его в руки с тем же намерением: ведь книга по-прежнему остаётся существенным убежищем, где мы можем… записки мои отделяют меня от нынешнего моего тоскливого состояния, отвращения, которое я испытываю перед… вот ещё любопытная запись: …во всю жизнь мою мне досадно было, что предки мои были так нерадивы, что не оставили после себя ни малейших письменных о себе известий и через то лишили нас, потомков своих, того приятного удовольствия… а чтó, задумываюсь вдруг я, задумываюсь ночью, в больничной палате, где синеватый, в черноте, свет уличного фонаря даёт мне возможность читать, не без известного напряжения, угадывания, и даже писать что-то, неважно очиненным карандашом, чтó можем узнать мы о жизни прошедших времён, жизни исчезнувшей, ведь никакие Шинели и Пиковые дамы, никакие Прибавления к Инвалиду и Северные Пчёлы, никакие жукóвские, вяземские, корфовские дневники, никакие переписки Бобринских или Карамзиных, Гончаровых, Геккернов, Вульфов приблизительно даже не покажут, кáк же происходила, творилась жизнь в Санкт-Петербурге той зимней, синей поры, жизнь как материя жизни таинственна и тонка, невосстановима: уловимы и именуемы дни, случаи, простейший сюжет, которые даются последующим временам из дневников, переписки, реляций, по которым впоследствии пишутся книги Истории, и как же постичь, ощутить минувшее, исчезнувшее, не говорю уже о невозможности что-то понять даже в том, что меня окружает… из какого романа, какой пресловутой Пчелы можно будет узнать через триста лет, как ночами, тайком, меж сугробов, у Витебского вокзала покупали в машинах такси у спекулянтов водку, переплачивая втридорога… и зачем? дичь какая-то; кто и как догадается через три века обо всех фантастических мелочах, которые, нет, не поглощали нашу жизнь, но были её содержанием… джинсы! где доставали (незаконно и тайно приобретали) джинсы? весь Ленинград ходил в джинсах, как после в вельветовых штанах, миллион людей в фирменных, настоящего индиго, джинсах! и какие фирмы были в почёте, и сколько мороки, и зависти, доходящей до ненависти, и ночных девичьих слез от того, что нет джинсов и жизнь кончена, и как было важно иметь фирму лучше, чем у других, и как ударяли ночью обрезком трубы по голове, чтобы снять с человека не золотые часы, не серьги бриллиантовые, а джинсы: есть джинсы, и жизнь кончена… нужно бы писать про всё это, писать, в сундучок укладывать, да невмоготу, и лень, и глупым кажется записывать то, что и так всем известно… через тридцать лет всё скроется в полынье времени. Если действительно время уничтожает прошлое (я напишу ему, – понял я только что; я напишу письмо, ему, молодому человеку, автору повести в уважаемом журнале, моему рецензенту, и попрошу его…), если действительно время уничтожает прошлое, и мой скудный миг является средоточием, чашей, копилкой, сокровищницей всего, необъятного в глубине и тяжести своей, прошедшего, и этот миг, весь дрожа, вот-вот перельётся в следующий… мне горько, горько мне за себя, горько мне жить, неумело, неуместно, и умирать ещё горше; что же это за истина, что перестает быть истиной по ту сторону Пиренейских гор, опять записная книжка, кто имеет право писать воспоминания? – всякий, как чудесно я понял недавно, что я человек маленький. Всю жизнь я считал себя чем-то значительным, а пришёл черед умирать, и вижу… и тетрадь моя представляет записки маленького человека (погубил, погубил меня Мальчик самим существованием своим), что лишены наблюдений, обращённых вовне, и избавлены от философии; философией, говорили мне, должен владеть роман, роман я уже написал, философии в нём ни черта не нашли, а нашли в нём много неискренности… четвёртый час ночи. Хорошо бы уснуть.
Как мечтают о счастье, о любви и о пылкой славе, так я мечтаю уснуть. Вот ещё, пожеланием тихих снов, из старинного сочинения: …Когда не мечтаешь уже иметь в своём распоряжении десятки лет, когда ночь приносит угрозу неизведанного, отказываешься от искусства и довольствуешься беседой с самим собой; внутренняя беседа, вот всё, что остается приговорённому, час которого откладывается и откладывается, приговорённый сосредоточивается в себе, ум не действует, а созерцает; и пока он может держать перо и имеет минутку уединения, он сосредоточивается перед этим отзвуком самого себя и беседует с…
XI
– Чтобы произошло убийство, нужен мрачный дворец, – движением тонкой, почти детской руки увела влево тяжёлую тёмную штору; и возник в недобром свечении утра Михайловский замок. – …люблю его хмурую колоннаду. Его лестницы грубого камня. Хозяйку его, вызывающую красотку, у дворца было имя архангела и краски любовницы, юную княгиню Аннет Гагарину, хоть была она маленькой дрянью, пусть не такой законченной дрянью, как Нелидова, монашенка, жадная до денег, поклонения, лести, власти, с иноземных послов взимала Нелидова чудовищные взятки в золоте и бриллиантах: за заключение договоров, о которых знала заведомо, что император подпишет их… и Аннет, всё зная о заговоре, императора не уведомила; и мне императора жаль; искренне жаль императора, он был умница; и несчастлив, как только несчастлив может быть человек: несчастлив в рождении, в любви, в таланте и в смерти; в российской Истории императора Павла занесли по графе помрачённых в рассудке, и тем успокоились; теперь каждому думать приятно, что он лучше императора и, главное, умней; в череде императоров российских, в сем величественном порядке, фигура императора Павла трагическая из трагических; примеры его помрачения? перечти внимательно все указы: генерал такой-то исключён из службы за пьянство; семь полков, потерявших знамёна, лишены знамён впредь; кучера и форейторы не должны кричать при езде; наезжать на людей запрещается; ремесленники, берущие заказ, должны соблюдать срок; в театрах соблюдать тишину и порядок; выслать из Петербурга в деревни всех ненужных крестьян; маленьких детей не выпускать на улицу без присмотра; у подоконников, где цветы в горшках, устроить ограждения, чтобы горшки на прохожих не падали; именно он придумал собакам значки на ошейники, чтобы знать, с кого спрашивать за собачью вину; именно он придумал, что орудия должны стрелять в цель! армия помирала со смеху, скрипела зубами, темнела от негодования, когда он вводил во всей артиллерии новые, Эйлером рассчитанные, испытанные в Гатчине лафеты, упряжки, диоптры: м-мы! герои Кагула и Рымника! побеждали без этих глупостей!.. в нём горела тёмным огнём последняя искра петровского гения, и мне кажется верной угрюмая сплетня, что текла в нем петровская кровь; жаль его… лишь солдаты его любили; единственное время в истории Империи, когда солдата хорошо одевали, хорошо кормили, давали денег; а император искренне любил дворняг, Русский Гамлет, для всех, и в первую очередь для себя, был он дворнягой. Гамлет!.. Гамлет: страшно… (она так это выговорила, что и мне стало страшно: пахнуло в лицо жутким, гнилостным холодом… актриска! дрянь талантливая, опомнился я) и хуже всего, что не знает, действительно ли император, мерзко удавленный, – отец его; к великому ужасу своему, не уверен, что старая императрица, утеха всей гвардии, – его мать, и жена ли ему жена, и провидит, в сновидениях чёрных, что дети жены убьют его, и убежден, почти, что единственную, кого он бессмертно любил, отравили… тут есть зачем выстроить крепость, окружить её рвами с водой, выкатить пушки с зажжёнными фитилями: узник в собственном Городе!.. и как все, все трагичные, изнуряемые мистицизмом русские люди, клонился к католичеству: иезуиты, Мальтийский орден, святой Иоанн Иерусалимский, рыцарские чины и рыцарские кресты, игрушки воображения; и Замок его – игрушка; люблю Замок так, как если бы я его для себя придумала; и неверно и дурно считают, будто замок Михайловский мрачен: он добр!.. время умиротворило воинственность, унесли ветра грозный сумрак, в котором шпиль Замка блистал золотом с жестокостью шпаги; взгляни, каким был мой Замок, посреди Города: в неприступных гранитных откосах, прорези в камне, орудия, с дымящимися фитилями, бледно сверкающая под хмурым небом золочёная кровля, и над Фонтанкой, над гранитными набережными её, над Замком, на высоком древке: громадный парчовый штандарт, зыблемый жестоким морским ветром мягко и тяжело: на золотом поле чёрный, когтистый, византийский орёл; католическое рыцарство и Византия! мечта о воссоединении разделившейся некогда Римской империи; за крепкими, крепостными стенами, под золочёной кровлей, покои и галереи, изукрашенные мрамором и порфиром, лазурью, золотом, бронзой, кованым серебром: просторность и великолепие Рима, угрюмость средневековья, роскошь и пылкость Возрождения; а финские зимы всё же финские зимы, и в залах, затянутых едким дымом от пылающих жарко каминов, по золоту, мрамору, гобеленам, расшитому золотом сукну ползут, темнея, блистая, с потолочной лепки тяжёлые, мрачные языки льда; как я бредила Замком! его потайными лестницами, подземными галереями с выходом в грот, что в Летнем саду; не спасут, ничто не излечит от гибели, молчит неверный часовой, опущен молча мост подъёмный, здесь Пушкин второпях обманулся, увлечённый восторгом, тем, который впоследствии не любил и просил не смешивать с вдохновением, он восторжен был, опьянён вниманием к себе и весельем, в ту ночь, у Тургеневых; а мартовской ночью мост не опускали, заговорщики перешли ров по льду: скользя, спотыкаясь… пьянчуги и трусы! и государь император (глаза моей девочки гневно сверкнули) вёл себя низко! согласна: в ночном колпаке и длинной ночной рубашке хвататься за шпагу неуместно и глупо, но у него над постелью висели заряженные пистолеты, и если бы он хладнокровно, как учила вся литература восемнадцатого столетия, уложил двух иль трех, когда пьяная гвардейская сволочь ломилась в двери, клянусь, что прочие в испуге бежали бы, и поднялся бы в ружье караул; леденящий страх помрачил императора; страх высшего порядка; вечно жил император в ужасе тройственном: в ожидании кары Судьбы, за грехи матери и отца; в ожидании казни людской, несправедливой, от жестоких тайных злодеев; и в ожидании возмездия Божьего за свою непутёвую жизнь; жестокость… почему в жизни все, все несчастливы? глядеть жутко кругом: хочется плакать; и почему людям кажется, что если резко сделать что-то решительное, то мучения все прекратятся; и единственное мгновение счастья: решительность, воплощенная в жизнь, в движение! мгновение – перед тем, как сломаешь хребет Фру-Фру. Почему? ты не знаешь?..
– Хочу бал, – сказала она огорчённо. – Хочу, чтобы весело. Лучше мы растворим осторожно Замок в серых туманах, морской ветер и солнце развеют туман, и увидим на месте Замка деревянный прежний дворец, ты не против? деревянный дворец, с галереями, позолотой и краской облезлой (и она осторожно, не без удовольствия, укрыла Замок тяжёлой шторой), ленивыми лакеями во дворе, прачками, криком кур и гусей, перебранкою кучеров возле отложенных карет… красивый и добрый дворец. И вот: пятое сентября. Вечер, тёмный и тёплый. Тезоименитство Елизаветы. Иллюминация и фейерверк перед дворцом. Во дворце бал. И весь Петербург толпится кругом дворца, жадно глядя в распахнутые окна. В люстрах тысячи свечей, и в свете их живого огня сверкают, блещут тысячи бриллиантов в причёсках и уборах дам. В Летнем саду гулянье с факелами, и щёголи в модном платье: синем суконном с большими разрезными обшлагами, в белых суконных камзолах, пуговицы повсюду гладкие золотые, а петли по всем местам обшиты золотым галуном; прелестные высокие причёски дам осыпаны пудрой, в ту осень в ходу пудра всех цветов, наимоднейшие же имеют названия: заглушённого вздоха, совершенной невинности, сладкой улыбки, нескромной жалобы, в моде мушки всех размеров, мушка звёздочкой на середине лба именуется величественной, на виске у самого глаза страстная, на носу дерзкая, на верхней губе кокетливая, у правого глаза тиран, на подбородке люблю да не вижу, на щеке согласие, под носом разлука; сколько терзаний, если возлюбленная появляется в пудре жалобы с мушкой разлуки, сколько волнений сладостных, если: согласие и заглушенный вздох; и гвардейская музыка тяжко вздыхает в саду, фейерверк рассыпается в зелёном небе над чёрными деревьями, и всё как в стихах Каролины: и в толках о своих затеях гуляли в стриженых аллеях толпы напудренных маркиз, каждый молод, и каждый влюблён, и уверен, что жить будет вечно; чёрные ночи начала осени исполнены тайн и чудес, влюблённостью дышат осенние леса Города, возникшего колдовством и для колдовства; вглядеться, и видно, как в такую же ночь пирует в Летнем саду, ещё цесаревной, Елизавета с гвардейцами, всеми презираемая за происхождение юная красавица, счастливица, и гвардейцы, упившиеся мрачно, сожалеют об унижении России, и она, счастливая своей юностью и красотой, возглашает значительный тост, я ещё покажу всему миру, что я дочь Петра Великого, и хмельные грубые глотки просветленно ревут: Виват!.. Юность Елизаветы; юность Империи. Вся Фонтанка: юность Империи; юность грубая и упрямая, неотёсанная и жадная, одержимая лютой, весёлой тоской по всему невозможному, что представляется достижимым, протяни только руку…
– Хочу праздник, – капризно и огорчённо заявила она, – хочу праздник! хочу ночи осенней, огней, музыки, счастья! и… не получается. Фейерверком, огнями в ночи рассыпается праздник, но лежит весёлая ночь между ужаснейшими войнами. И всех мальчиков юных, в белых суконных камзолах, с шпагами на боку, уведут в дождливый, тоскливый рассвет в чужие поля, и убьют. Все фейерверки в Городе, вся военная, струнная музыка – непременный обман, гибель где-то здесь, очевидно, но беспечна, пряна, бесстыдна маскарадная болтовня, начинается тема призраков, бледен лоб и глаза открыты, значит, хрупки могильные плиты, значит, мягче воска гранит, много раз принималась я хоть приблизительно перечесть призраки, что блуждают по Городу в легендах, и литературе, и всё время сбиваюсь со счета: так много их, от императоров и графинь до ничтожных чиновников; почему не напишешь ты роман с петербургским призраком?.. (куда я потом с романом тем денусь, подумал я сумрачно, увидел лик Главного в Издательстве на канале Грибоедова, и поперхнулся) видишь? в дальнем углу меж Невой и Лебяжьей канавкой деревянный дворец; и ночью по залам дворца, склонив задумчиво голову, бродит женщина в светлых одеждах, и караул, озабоченно лязгая, отдаёт ей честь: императрица; и женщина бродит задумчиво, ночь напролет, и вторую ночь, третью; испугавшись, доложили Бирону; Бирон, запахнувшись сонно в соболий халат, подошёл к ней, покашливая, с учтивым вопросом; и в ужасе прочь, в спальню к императрице; и видит, что Анна Ивановна почивает; Бирон её будит и ведёт в тронный зал; часовые, лязгнув в приветствии, леденеют от ужаса: в тронном зале, лицом к лицу, две Анны Ивановны, две самодержицы; и та, что бродила ночами, медленно, медленно взошла по ступенькам к трону, присела на трон и исчезла; горько заплакала императрица: батюшки! это ж смерть моя, и через три дня… и, стоит лишь сделать движенье рукой, и нет никаких призраков, я люблю этот край допризрачным, грубоватым и очень понятным; здесь, как над старинной картиной колдуя, смываешь лёгким движением слой за слоем, и возникают из речного тумана… люблю до-историю Города, мифические его времена, вот, на месте дворца Петра, когда трубы победно ещё не звенели, темнеет в тумане мыза майора Конау, в тумане холодного утра выходит на огороды владелец, в вязаном колпаке, в шерстяных полосатых чулках, с трубкой, дым табачный смешивается с туманом, туманное осеннее утро, и почти под моим окном, в тумане, деревня Первушина, из названия очевидно, что она тут поставлена первой, а там, где лет через тридцать устроят зверинец, и слоны, дар персидского шаха великой северной императрице, затрубят по утрам, где ещё через семьдесят лет взметнётся каменный Замок, там, в осеннем тумане, деревня Усадищи; хорошие, добрые люди здесь жили; и война, что велась в трёх верстах отсюда, для них всё равно что зá морем; тридцать одна деревня: семьдесят островов; с кабаками, церквами, погостами; новгородцы, финны и шведы, вепсы, эсты, корелы: жили; и почти не касаясь их, семь веков шла война королей за эти места; исконная доброта и вечные войны: вот сочетание, определившее, как я думаю, дух Города и судьбу его; и влажным, туманным утром, майским, точь-в-точь таким, как сегодняшнее, зазвенели над мызой, разграбленной за ночь, над разворованными деревнями военные горны; меня занимает, что Город уже был запущен, как запускают машину, и, грохая, жил потихоньку, копошился в болотах и на берегах просторной реки, а Петр одиннадцать лет не мог точно решить, что из Города вылепить, и что сам он, государь, самодержец России, здесь хочет увидеть: одиннадцать лет! Пётр… Пётр фигура загадочная, до сих пор разбирают указы, архивы; монографии пишут; что похуже, то прячут; что получше в персоне исследуемой, причёсывают; Пушкин мог разгадать чудовищную эту загадку; Пушкин, очаровавшись Петром… не успел; не позволили; не судьба! граф Лев Николаевич, присмотревшись, пришёл в ужас и омерзение; и навсегда повернулся к чёрной фигуре спиной; господи! как я мечтаю о книгах, которых ещё нет в природе! как смертельно, отчаянно жаль, что они, эти книги, будут написаны через семьдесят, через триста лет после меня! плакать, выть от тоски хочется… ах! (проговорила она уныло и безнадёжно) приплыл государь Пётр Алексеевич, на худой лодке, и развёл для чего-то Летний сад… (вдруг оживилась, и голос её заискрился удовольствием) развёл Летний сад: в голландском вкусе! затем Леблон разбил его во французском, по примеру Версаля, а Гаспар… повстречал государь в скучном Ревеле Гаспара Фохта, лучшего ревельского садовника, уговаривал, соблазнял, просил ехать в Петербург растить Летний сад, и, наконец, уговорил прокатиться и посмотреть; усадил с собой рядом в карету; поехали неторопливо; приезжают, и видит Гаспар: стоит домик под красною черепичною крышей, из трубы вьётся дым, пахнет жареным гусем, перед домом разбит цветник, розы цветут, у окошка сидит, улыбаясь, его, Гаспара, жена, и по дорожкам, усыпанным красным песком, бегут его, Фохта, дети: папа! папа!.. и остался Фохт петербуржцем. Петербург начинался с садов… как красиво, прелестно звучит: Петербург начинался с садов! умилились все, дружно забыли, что мой великий, несравненный мой Город начинался каторгой. Вот важнейшее различие, вот в чём Пушкин решительно разошелся с Мицкевичем. Пушкин знать не хотел ни о каких, здесь закопанных, ста или трёхстах тысячах; закопанных без могил, прямо там, где мёрли, между свай, на которых стоят дворцы, бастионы, набережные; новорождённая столица, которая подымалась из болота по манию самодержавия, победа человеческой воли над супротивлением стихий, вот и всё; а для Мицкевича Пётр являл образец уголовного преступника. В первый раз в истории нищей России ткнули пальцем в ландкарт, означив, где будет географический пункт, где будет город заложён: и пошли, пошли, потянулись по грязным просёлкам; конвой по обочинам; вон, за Казанским собором: Переведенские слободы, жили в них переведенцы вечного житья; по бескрайней державе, на бешеных фельдъегерских лошадях: Известие, коликое количество в губерниях доль, и что по плепорциям или долям подлежит взять на вечное житие в Санкт-Петербург мастеровых людей… с Московской губернии сорок семь кузнецов, трёх слесарей, двести восемьдесят четыре плотника, одна тыща четыреста сорок четыре кирпичника… вот где ужас! с детишками и со скарбом: неизвестно куда, на край света, в топи болотные, на житьё вечное, значит до смерти; и не ответили государю свирепейшим бунтом: всю жизнь, до смерти, прожили в железном капкане террора; и все, все, все, все – все они здесь и умерли; и каждый хоть что-то успел выковать, возвести, уронить в замешенный кирпич каплю крови; и лишь затем, затем, много позже, после многих капелек крови, что-то переменилось, переменилось, и неудержимая, диавольская сила потащила людей в мой Город уже вольною волей, и ничем их было не остановить; и из всей бескрайней Империи всё лучшее, что в ней было, и всё худшее, что имелось в ней, тащилось, ползло, шагало, маршировало, скакало, неслось вскачь: сюда, чтобы здесь, просверкнув, умереть, завершить путь, пополнить величайшее кладбище России; и все, кто сюда приходил, непременно вносили в мой Город своё, и тем его изменяли; все: керженский старовер, ярославский крестьянин, архангельский плотник, варшавский шулер, виленский вор, литератор московский, воронежская актриса; или граф, граф Растрелли, подозрительный граф; купил титул у папского нунция, приехал за удачей и золотом, мигом усвоил, что к чему в диком Городе, устроенном из флота, воды и барабанного боя, и вошёл с понимающим всё Трезинием в соглашение против Леблона, интриганство тяжеловесное, византийское, здесь сменилось интригами европейской изысканной тонкости, блистательными тем более, чем изощрённей были приезжие и чем глупей власть предержащие; о искусство великое держать себя независимо и юлить! между тем как у любой закалённой умницы всё внутри умирает, если жизнь и творчество, то есть больше чем жизнь, зависят от дурака; ненавижу; дрожать начинаю от ненависти, едва вспомню про этого негодяя, вот фигура воистину чёрная, мрачнее Малюты Скуратова: князь Ижорский, Прегордый Голиаф, Полудержавный Властелин… говорили, что именно он свёл отравой в могилу Екатерину, вдову Петра; он мог; умиляются тем, как он стойко перенёс свое крушение; стойко, потому что дурак; и ещё потому, что, лишившись в четверть часа всего, одеревенел до бесчувствия; восемь дворцов; десять собственных городов; девять миллионов золотом в банках Лондона и Амстердама; и власть, власть, власть: власть над Империей; после таких потерь все дальнейшие несчастья проходили уже незамеченными: смерть жены, Сибирь, голод, смерть дочери; сей новый Иов был Иов-поданестезией; твёрд, как бревно с мороза; если уж говорить о мужестве, то в пример приводить нужно великого Миниха, который вошёл в тюрьму в Пелыме в шестьдесят лет и вышел восьмидесяти лет: тугим, как клинок, талантливым, умницей, тружеником; что до птенцов гнезда Петрова, которых Александр Сергеевич воспел чохом, как Сорок Мучеников, если перебирать имена не спеша, загибая пальцы, выяснится, что все они были как один шкуры отъявленные, без чести, без совести: им и совесть и честь заменяла личная преданность, а какова цена личной преданности, мы знаем с точностью достоверной; и все они, как и следовало ожидать, кончили жизнь очень дурно; и всё же Леблона дурак и подлец Голиаф Прегордый погубил, и весь замысел грандиозный его погубил: по наущению Растрелли с Трезинием; бедный Жан Батист Леблон; на Леблона Петру указал Лефорт; Леблон ученик Ленотра, представляешь (тихонько засмеялась она), пронырливый, важный Ленотр, учредитель Версальских парков; Леблон в одиночку трудился как три академии; Леблон умел всё: заводить школы любых профессий, возводить и штурмовать крепости, осушать и затапливать поля и города, проектировать города, строить их, устраивать их освещение, поднимать затонувшие корабли; изящные и просвещённые всеми науками европейцы приезжали в мой Город, как те крестьяне: уронить каплю крови; и умереть здесь; из всех, кто зачинал Петербург, Маттарнови, наверное, умер первым; Маттарнови, который старался придать царской резиденции характер если не пышности, то вкуса и красоты, для того времени немыслимых… кинуть взгляд в Крепость, и видно, как, по православному чину, хоронят колдуна, иноземца Брюса; и сколько их было, вовсе безвестных, как несчастный француз Вераж, которого зарубили башкирцы потому лишь, что не говорил по-русски и носил синий камзол, похожий на шведский мундир… я безмерно, бесстыдно, бесконечно завидую чужому умению замечательно мыслить, я немею (вздохнула счастливо) перед возможностью лёгкой ремарки: прошло сто лет… хитрость в том, что ничто не проходит. Всё-всё остаётся: движущимся, живущим, трепещущим, как сверкающая под солнцем юная листва на ветру… всё временно, всё неустроено, всё на кривых сваях, над гуляющей, плещущей вольно водой, камень здесь будут класть только при Екатерине Великой, и над Невою висит деревянная зала для торжеств в честь венчания цесаревны Анны Петровны с герцогом Голштинским Карлом-Фридрихом, в громе и светлых дымах торжественных пушечных залпов плывёт через Неву после венчания в Троицкой церкви свадебная процессия: тридцать три золочёных галеры, и забыт за ненужностью давней майор Конау с его вязаным колпаком, красуется на его земле, в лесу, причёсанном и ухоженном, как версальский парк, микетти-леблоновский-шлютеровский дворец, золочёная кровля, по углам её четыре золочёных дракона, и вверху флюгер с золочёным красавцем конём, и мраморная Афродита Пенорождённая, прикрывая девичьи груди, светится наготою своею в гроте, ещё не Таврическая, потому что дворец Таврический в Петербурге не возведен ещё, ещё правит Таврией хан, ещё будущий князь Таврический не родился, Афродиты восстали из пены, удивительно свежая, как морской ветер, трезвость пирующих кровавых времён, когда привиденьям нет ещё места среди сосновой, пахучей щепы, когда грозным указом по всей Руси запрещены чудеса, Афродиты восстали из пены, и безумия близится срок, и пока что Герман ван Боллес ладит первый в Городе, деревянный Симеоновский мост, точь-в-точь такой, как на родине Боллеса, в Амстердаме, разводной, с противовесами, и готовится возводить узкий шпиль Петропавловского собора, Герман ван Боллес ещё не в опале за нелепые вредные размышления вслух о таинственной смерти царевича, царевич покуда жив, хоть и смотрит с тоской на всё, что творится вокруг: что-то роют, рубят и камень кладут. Литейная часть, где живём мы с тобой, Леблоном намечена для приличных людей, и хоть волки зимою загрызли здесь двух часовых у ворот Артиллерийского двора, сорок восемь каналов превращают Литейную часть в Амстердам, по широкой-широкой Фонтанке плывут неторопливо, огибая осмотрительно отмели, барки с лесом и финским камнем, Фонтанка уже Фонтанка, потому что фонтаны уже бьют в Летнем саду и играют на солнце, в водяной искристой пыли дрожит радуга, ключевая и ледяная вода для фонтанов бежит за восемнадцать верст, с Дудергофских гор, от мызы барона Дудергофа, среди всех родников Дудергофских озёр есть один, из которого воду будет пить, где б она ни жила, императрица Екатерина Великая, вода бежит по Лиговскому каналу в акведук над Фонтанной рекой: трёхэтажные водовзводные башни украшают её берега. Шестьдесят восхитительнейших фонтанов, гордость царя Петра, который ещё не увенчан Ништадтским миром, ещё не император, шестьдесят чудесных фонтанов, обсаженных ильмами из Москвы, грабами из Киева, липами из Нарвы, кедрами из Соликамска, яблонями из Швеции, розанами из Данцига, тюльпанами из Голландии, шестьдесят фонтанов, украшенных раковинами из Ильменя, фонтанов, бьющих из сказочных, золочёных фигур с аллегорией, каждая из фигур изображает басню, и лучшая из скульптур – золоченый Эзоп; идёт юность Империи: чудесная, как морское утро у Лансере, веет ветер утренний с моря, и Город мой возникает из белого сумрака, распускается в утреннем сумраке, точно росою обрызганный куст сирени в ветреном утре, и садовники его не видны: тысячи, в грубых рубахах, что копают уже Лебедянку, пруды Па-де-Кале, Поперечный канал и Мойку, отделившую Второй Летний сад от Третьего, пруды Елизаветы, копают, чтобы после, через семьдесят, через сто десять лет, половину, две трети из выкопанного засыпать; Мойку соединяют с Фонтанкой; Мойку соединяют с Глухой речкой; в сердце Города создаётся фантастический узел, трагическая развязка вод Фонтанки, Мойки и Екатерининского канала, и никому, никому ещё не известно, к чему это всё приведет… а над всем этим, десятилетиями, плывет недостроенная колокольня, торчащие стены собора Петра и Павла, который десятилетиями достраивать будет Миних.