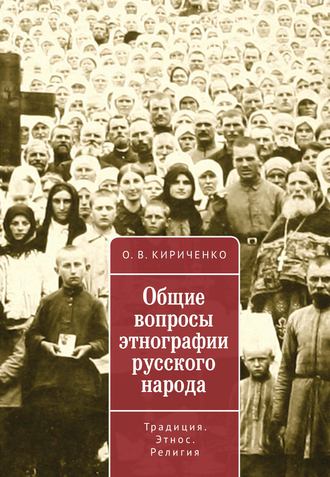
Олег Кириченко
Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия
Некоторые исследователи языческой традиционности делают предметом исследования православную культуру, вычленяя в ней «православное» и «традиционное языческое», объясняя, что в православной культуре нет ничего своего, а есть одни только заимствования из языческой культуры. Особенно в этом преуспели представители структуралистского направления, для которых поиск так называемых бинарных оппозиций позволяет в любом явлении православной культуры находить языческую подкладку. Так, например, автор учебного пособия для учащихся X–XI классов «Русская традиционная народная духовность» А. В. Юдин провел кропотливую работу, сличая православные сюжеты с языческими и делая первые несамостоятельными и как бы типологически зависимыми от вторых. Культ святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба в этой ошибочной методологической системе является не более как проявлением древнего языческого общеевропейского культа близнецов. Так в очередной раз, без всякого смущения к своему кафтану был пришит чужой рукав. Описание Пасхи этот автор свел к нескольким суеверным действиям и обычаям, при этом забыв отметить, что это за праздник и почему миллионы верующих идут на всенощную в храм, ничего не сказал о богатейшей народной практике отмечать пасхальные дни разнообразными обрядами141. Вывод автора, вытекающий из содержания материала, однозначен: именно языческая традиционная духовность лежит в основе русской традиционной духовности, православие – не более чем искусственная оболочка, принципиально ничего не значащая. Такие выводы делаются при полном игнорировании тех работ специалистов142, где доказывается, что здоровое ядро языческой этничности и культуры восточных славян стало другим, когда добровольно подчинилось христианской духовности, и несравнимое с языческим богословие христианских символов, идей, сюжетов вовлекло в свой круг (а не наоборот) те языческие реалии, которые были не искажены языческой культовой практикой.
Проблема, которая обозначилась – «язычество/православие; православие/ язычество» – сегодня приобретает все большую дискуссионную остроту. Важным становится вопрос о характере влияния языческой славянской традиции на русское православие. Апологетами славянского язычества нередко выступают православные авторы, в общем‐то понимающие, что две духовные системы, две традиции не могут существовать в одном духовном поле, но они настаивают на этом существовании. Причиной подобной настойчивости, на наш взгляд, является то трагическое современное положение этнической культуры русских и их этничности, которая и заставляет православную интеллигенцию искать пути выхода из кризиса. Сегодня немало представителей русской творческой интеллигенции считают, что одной из главных причин кризиса русской традиции являются радикальный отказ от славянского языческого наследия и слишком активная борьба Церкви с этим наследием. Одни из них говорят, что мы должны брать пример с Европы и Западной Церкви, не разрушавших так последовательно и настойчиво свою «народную традицию». Другие утверждают, что «Церковь не боролась с язычеством», а лишь «с бесовщиной, черной магией, колдовством, идолослужением, кровавыми жертвами… изуверством староверов всех толков, кровавыми и оргиастическими культами»143. Что же в этом случае для А. Е. Федорова «язычество», если оно не «бесовщина, черная магия и колдовство»? О нем, оказывается, просто «ничего не известно». Но, по мысли автора, за язычеством стоит «великая индоарийская культура». И христианство лишь освобождало славян‐язычников «от страха демонского и боязни зла, христианство освобождало от бесовского рабства». Но у славян‐язычников была своя сильная сторона: они создали мощную традицию самобытного освоения мира и самобытного взгляда на космос. Автор не считает противоречащим церковности славянское «почитание космоса, природы, предков», ведь это «не означало их обожествления»144. Церковь «воцерковила» славянское язычество, а не упразднила его. Авторам упомянутой книги это предисловие необходимо, чтобы проиллюстрировать свою главную мысль о «самобытности русской церковной архитектуры, корни которой в языческом славянстве, а не в Византии». Сам же архитектурный материал, обильно представленный в этом издании и проанализированный с точки зрения «славянской самобытности», а точнее принадлежности к древней индо‐арийской традиции, зримо показывает, что у русской церковной архитектуры и древней индийской архитектуры (которую авторы и берут за «образец») действительно типологическое сродство по многим признакам. И мы, вслед за авторам книги, как будто должны признать неоспоримый факт языческого воцерковления славянской традиции и все остальные выводы авторов.
Но меня лично смущает не столько проанализированный архитектурный материал, сколько умело расставленные новые акценты терпимости православной церковности, могущей воцерковлять славянско‐языческое почитание космоса, природы и предков. Смущает полуправда понимания значения христианства для язычников; полуправда в отношении язычества, неправда в отношении Византии. Разве миссия Богочеловека Иисуса Христа состояла в отгнании бесов от человека, а не в Воскресении и спасении в вечности человека от греха и смерти?! Язычество же, в православном понимании, – это время господства языческой религии, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Язычество не перетекало плавно в христианство на Руси, воцерковляясь, потому что сразу между обеими силами началась борьба, была обозначена четкая граница, разделившая две традиции пропастью, которую перейти (в христианство из язычества) можно было лишь отрешившись от языческих корней. Другое дело, что Русь не сразу во всей своей ойкумене перешла к церковной жизни; сначала это произошло в городах, и лишь после XIII в. – в сельской части. В последующем Церковь боролась с языческими суевериями, но уже не с языческой верой (языческой религии как традиции, как суммы ритуалов, обрядов уже не было), а лишь с суевериями. Мы ничего не знаем о «высокой культуре славян‐язычников» ни по археологическим, ни по письменным (античным, византийским и др.) источникам. Но это говорит о том, что не было «высокой культуры». Если античность была, то остатки ее, как и память о ней, сохранились. Интересно, что образцами ткачества русской народной традиционной культуры заинтересовались в других странах с XIV в.145 И этому есть объяснение. Простонародная, крестьянская, художественная культура с XIV в. становится церковной, христианской, она расцветает в своей духовной свободе, которой у нее не было, пока она находилась в языческом плену. Отныне русскому крестьянину не нужно было покрывать одежду защитными символами‐оберегами, как это делал славянин‐язычник, везде и всюду соединяя себя с природным миром, подчиняясь ему и принося ему религиозные жертвы и хвалу. Славянин, став крещеным и церковным человком, вздохнул свободно, открыто, со всей своей духовной, душевной и телесной осовобожденностью и воздал хвалу Богу‐Творцу за это. Отныне «черты и резы», символы и знаки стали частью выражения этой радости и хвалы. Раз и навсегда ушел этот языческий смысл рабской подчиненности природным силам (которой умело пользовались падшие ангелы в своих целях); раз и навсегда поменялся смысл прежней символики. Этнографы, которые ищут «глубокие, древние, архаичные смыслы» в этих сохранившихся следах древности, не понимают одного: более глубокий смысл у этих символов на вышитых полотенцах, рубахах, на деревянной резьбе и т. д. находится не в древности, а в их нынешнем качестве. В христианстве – это знаки, оставленые Богом на память, чтобы бывшие славяне‐язычники не забывали, что когда‐то они находились в рабстве у природы, – той природы, которой Бог в Раю предназначил им повелевать; и падшие ангелы во время этого периода рабства смеялись над людьми, помогали им пресмыкаться и унижаться перед безгласным творением. Очень жаль, что этого не понимает и другой, уважаемый нами, православный автор – Геннадий Петрович Дурасов, написавший книгу «Узоры русской народной вышивки и ткачества» (Изд. Народный музей схимонахини Макарии, 2018), выводящий «подлинные корни народной традиции» из эпохи славянского язычества и даже более древних времен. Им тоже проводится мысль, которую разделяли многие русские этнографы XIX в. Ф. И. Буслаев, А. Н. Афанасьев, С. В. Максимов, И. П. Сахаров, В. В. Стасов и другие о том, что «народ всегда прав», даже в язычестве. И хотя даже в Евангелии истина о народной правоте оспаривается, но мысль эта крепко сидит в головах русской интеллигенции. В книге Г. П. Дурасова древняя, языческая эпоха выглядит как подлиный источник мудрости, время накопления великих знаний, больших тайн и большого искусства, которое лишь в виде осколков сохранилось в крестьянской культуре XIX в. Исследователю сегодня приходится заниматься глубинной расшифровкой символик узоров, сохранившихся на крестьянской одежде. Литературный слог авторского текста мажорный, он передает восхищение, которое сам автор испытывает от соприкосновения с народной художественной культурой, культурой вышивки, культурой глубокой архаики. Автор восхищен русской вышивкой именно из‐за ее очень древних, архаичных форм, которые тяготеют ко времени палеолита (а почему бы не сказать о библейском времени!).
Нам же кажется, свет этой символики имеет другое происхождение. Эти сложные символические знаки, нанесенные на одежду, на полотенца, буквально наполнены пасхальным светом; неведомым образом они передают нам, смотрящим на них, что это не голая символика, не зашифрованные криптосмыслы, а крик радости, обращенный к Богу. Народная вышивка полна бессчетного числа криков восхищения преображенным миром: «Ура, ура, ура!». А это значит, что кроме того смысла, о котором говорилось выше – быть памятью о тяжелом, рабском для души, времени язычества, народная символика одновременно содержит и другой контекст, другой смысл – крик радости о свободе от прежних, языческих, оков. У народной символики, запечатленной в вышивке, двойной смысл: 1) она вопиет, радуется, салютует о духовной свободе народа; 2) напоминает, что когда‐то то были знаки другой, языческой традиции, дух народа находился в плену и об этом надо помнить. Как образ креста, имевший в римской языческой традиции значение сугубо негативное, в христианстве приобретает тот же двойной смысл: это орудие казни Христа, и это орудие спасения и ограждения от сил зла для христиан.
К сожалению, как показывают обе процитированные, недавно изданные книги Г. П. Дурасова и А. В. Рачинского, А. Е. Федорова, линия на обоготворение народной культуры, в любом ее варианте, начатая еще в XIX в., продолжается и в наше время православными авторами, искренними в своих заблуждениях. Свое желание поддержать любыми способами наш погибающий от безверия русский народ, отрывающийся от корней и традиции, эти авторы превращают, по сути, в орудия разрушения собственной традиции. Это очень больно видеть и понимать.
Русская народная культура в городе
Положение русской народной культуры сегодня плачевно, в живом, первичном ее виде она почти исчезла, умерла. Что можно сделать, чтобы вернуть ее хотя бы в ограниченном виде? Судьба народной культуры – один из важнейших вопросов сегодня не только культуры, но и существования народа (как этнокультурного самобытного организма) в целом.
Рассмотрим среду, которая порождала и поддерживала существование народной культуры. Народная, в отличие от профессиональной, – это культура, которая в хозяйственной, художественной, обычно‐правовой и других формах запечатлевает традиционность, т. е. воспроизводящиеся естественным образом формы жизни. Запечатленная традиционность присутствует сегодня наиболее весомо там, где находится источник традиционности, в Церкви. Здесь, в богослужебном годовом круге, сохранилась полнота цикличности, на которую всегда опиралась народная, аграрная цикличность. И хотя аграрность сегодня почти перестала носить народный характер, но все же отдельные ее признаки еще кое‐где в российской сельской глубинке сохраняются. Широко празднуются дни урожая, отмечается особым образом посев, жива народная садовая и огородная традиция. Фольклорная и обрядовая среда почти разрушены. Народная словесность существует в сильно обедненном виде лишь в сельской, церковной среде, но и она на глазах умирает вместе с поколением, не знавшим в молодые годы компьютера и интернета. В наибольшей степени сохранилась та часть народной художественной культуры, которая была когда‐то связана с промыслами. Речь идет не только о промыслах, известных всей России, но и о самых разных малых и больших промыслах, имеющих оттенок художественности.
Город как отличный от сельского мира организм появился на Руси тогда же, когда и село. Это был привычный для традиционного уклада славян организм. Долгое время русский город принципиально мало чем отличался от села. Городской посадский люд так же, как и сельский, выращивал хлеб и питался своими трудами от земли. И все же с самого начала образование Российского государства город стал приобретать и своеобычные черты. Во‐первых, на Руси выросло два типа городов: киевский и новгородский. В условном центре киевского города располагался князь с его дружиной. В центре новгородского города находилась городская площадь, где собиралось вече. В торговом Новгороде народная культура особенно ярко преломлялась и застывала в неких условных формах, которые мы обозначим как модернистские. Модернизм, эпоха модерна, как об этом писал А. С. Панарин, это время, сменяющее традицию, традиционный уклад146. В Европу эта эпоха пришла вместе с Возрождением147. В модерне, в отличие от традиции, естественное, органичное воспроизводство заменяется субъективным творчеством, конструированием. Вот почему модерн живет механизмом непрерывной смены стилей. Здесь многое диктует мода. В Великом Новгороде город выступал как пространство модерна, в котором народная традиция лишь служила опорой для создания всё новых и новых образцов городской культуры. То же было и с киевской городской культурой, она тоже жила по закону модерна, с той лишь существенной разницей, что киевский народ и новгородский черпали свой исходный материал из разных источников. Для киевлян – это была болгарская книжная православная среда, а для новгородцев – византийская. Заметим, что ни киевляне, ни новгородцы не могли тогда опереться на крестьянский мир вокруг Киева или Новгорода. Этот мир тогда пребывал еще в язычестве.
Вот почему и та и другая городские культуры носили не только модернистский, но и непочвенный характер. Иными словами, это знание было символическим, умозрительным, в значительной степени привязанным к ритуалам церковного характера. В Киеве князь благодаря этому знанию ритуализировал пространство города. В Великом Новгороде – это делали горожане. Именно Новгород ввел в употребление массовые крестные ходы, шествия, носящие ритуальный характер.
Заметим, однако, что, благодаря близости самих горожан – и киевлян, и новгородцев – к почве, т. е. их народности, эта модернистская городская культура всё же была близка к народной основе. Но долго продержаться и не превратиться в вариант инонациональной культуры, не имея серьезной подпитки со стороны всей сельской массы, древнерусский город не мог. В период монголо‐татарского нашествия молодая русская народная культура была проверена на прочность и не выдержала обрушившихся на нее испытаний. Народ не сумел тогда сплотиться в одно целое, защищая страну.
Реальное духовное просвещение сельского населения началось на Руси не ранее последней четверти XIV в. и активно проходило в течение XV столетия. Тогда же в результате сложных политических процессов Новгород поглощается Москвой (а она видела себя наследницей киевской, а не новгородской традиции), и к концу XV в. возникла следующая ситуация. В качестве общего центра (и образца для народа) остается Москва как правопреемница киевской традиции, при том, что сельское население Московской Руси, благодаря созданию общежительных монастырей учениками преподобного Сергия Радонежского, становится православным. Соответственно городская культура Москвы и других городов Московской Руси строится с опорой на многочисленное сельское – крестьянское население. Модернизм (застылость и смена стилей) сохраняется, как сохраняется и ставшая привычной опора аристократии и великого князя на символизм в ритуале. Но появляется и нечто новое, чего раньше не было. Народная культура во всем объеме приходит в город. Объем и натиск ее был так велик, что город – с его механизмом модерна – готов был раствориться в традиционной крестьянской культуре. Город стало лихорадить, он оказался не готов в таком количестве перерабатывать народную культуру и превращать ее в культуру модерна. Этот кризис пришелся на время правления Иоанна IV, и именно ему пришлось мобилизоваться, чтобы ответить селу. На московскую митрополичью кафедру в 1542 г. приглашается новгородский митрополит – святитель Макарий. В 1547 г. происходит венчание Иоанна IV на царство. В том же году начали проходить в Москве соборы, канонизировавшие новых святых. В 1549 г. проходит I Земский собор на Руси, в 1550 г. появляется Судебник. После великих побед в восточном направлении над Казанским и Астраханским ханствами начинается народное переселенческое движение в Сибирь. Незадолго до похода на Казань в 1551 г. проходит в Москве Стоглавый собор, на котором поднимаются и вопросы, касающиеся народной культуры. Строгий порядок опричнины в 1565–1572 гг. был направлен не против народа, но был в числе прочих мер, нацеленных на стабилизацию ситуации в области народной культуры.
И все же, как показали последующие события, Смуты избежать не удалось. И хотя виновниками ее были большей частью люди из числа московского боярства, но последние сумели увлечь народную стихию в водоворот политического хаоса, и город был поглощен сельской стихией. И дело не в том, что сельская народная культура располагала к бунту, была агрессивной, она не была таковой. Во взаимоотношениях модерна и традиции наступила новая эпоха. Начиная с эпохи Иоанна Грозного модерн и традиция, город и деревня стали лицом друг к другу как равные соперники. Это противоречие в определенные моменты могло принять антагонистический характер из‐за того, что народная традиция не желала больше растворяться в городской культуре, не желала более питать своими соками городского обывателя. Да и у горожан к XVIII в. вдруг появились очевидные предубеждения, что «народное» от «разинщины» мало чем отличается. Этот критический настрой по отношению «к народному» заметен уже со Стоглавого собора.
В последующие века, вплоть до XX в., как бы ни решалась проблема адаптации сельской народной культуры и городской, перед властью и перед правящим слоем дворянства все время вставала угроза русского бунта, «страшного и беспощадного». Итак, православный русский город начиная с эпохи Грозного, когда он как будто нашел то, к чему стремился – свою народную почву для модернистского городского преломления культуры – сам был удивлен и испуган этой невиданной мощью, грозящей его поглотить. И далее, как нам представляется, поступательное движение в России пошло в сторону поиска городом возможностей нейтрализации народной творческой сельской силы. Первым крупным шагом на этом пути стало открытие «территориальных шлюзов» в переселенческом движении народа на восток, а потом и на юг. Это период XVI–XVII вв. Следующим действием было создание империи. Переход к новому типу государства, где впервые появляется новая область культуры – светская – был продиктован в первую очередь тем, что в рамках старого государственного управления стало опасно решать задачу преобразования традиционной народной культуры в культуру модерна. На это натолкнули следующие события. Внутри Церкви, т. е. в самом сердце духовной жизни страны, появилось недовольство церковными реформами патриарха Никона, которое стало быстро шириться. Патриарх Никон, обратившись к греческому опыту, тем самым вернулся к давно отжившей модели периода Киевской Руси, когда город опирался на чужой народный опыт (византийский и болгарский). В действиях патриарха просматривалось скрытое недоверие к русской народной традиции, не сумевшей, по его мнению, сохранить православную культуру предков. Раскол готов был не просто расколоть, но и разрушить Россию. Именно перед лицом все расширяющейся пропасти между городом и селом – государство в лице Петра I предпринимает странный на первый взгляд шаг. Оно обращается за народным опытом не к православным странам и традиции, а к протестантским. Если католики находились в резко оппозиционных отношениях к православию, то протестанты русскими оценивались более нейтрально. Вспомним, что первая иностранная община протестантов‐немцев появилась в Москве при Иоанне Грозном. Кроме того обращение к опыту православной Греции затрагивало самое сердце – веру православную. Обращение же к протестантскому опыту Германии и Голландии не означало еще отказа от православия, это было лишь обращение к хозяйственному опыту иностранцев. Для народа подобные действия власти не были уже столь категорично неприемлемыми.
Отныне между государством и народом заключался негласный договор о служении. Народ может оставлять свою культуру и поступать на службу государству. Поскольку Российская империя, как и любая империя, решала в первую очередь не политические или экономические задачи, а религиозные, то для крестьянства протестантская форма, в которой проходила имперская деятельность, не имела большого значения. Главное, что сам имперский проект России решал православные задачи. Вот почему народ принял новые условия своего существования, и расширение раскола прекратилось.
Но на повестку дня встал другой вопрос, касающийся судьбы русской народной культуры. Ведь русский город, как место сосредоточения модерна, нуждался в духовном, народном источнике для своего существования. Власть же, чтобы нейтрализовать оппозиционные возможности аристократии, всегда готовой использовать силу народной стихии для своих целей, создает в городе очаги светского мира. Собственно светскими были уже протестантская одежда, наука, школы, образ жизни царя и чиновников. Но, первыми светскими локальными очагами быта стали светские развлечения – балы, в которых могли принимать участие равно мужчины и женщины. Балы заменили старинные аристократические пиры. При этом дворянство должно было решать в рамках служения империи и императору задачи православного просвещения как общей почвенной духовности для всех народов страны. Крестьянство и дворянство были отныне разъединены культурой, но связаны долгом служения вере, религиозной задаче.
Русская народная культура попадает в странное положение: она существует, она питает империю и город своими соками, своей почвой, но город в лице аристократии до появления интеллигенции из дворянства (Пушкин, Лермонтов, Гоголь и др.) делает вид, что этой культуры не существует. Разрыв, который в XVII в. шел по линии «народная культура – государство», в XVIII в. стал проходить по линии «крестьянство—дворянство». Крестьянская народная культура становится все более чуждой дворянству, от чего теряли обе стороны. Дворянская культура все больше отчуждается от народа, но и народ не остается в долгу. Разрыв органики двух культур влиял на то, что крестьянская культура постепенно стала утрачивать высокий профессионализм, а также тесную связь с церковной культурой. В ней быстро растут языческие паллиативы, на что стали обращать внимание епархиальные архиереи уже в XVIII в. XVIII век вообще сыграл роковую роль в судьбе народной культуры. Именно тогда в ней начинают возникать образцы «вторичной народной культуры»148, что связывается с суевериями, активизацией внутри аграрно‐обрядового комплекса рецидивов дохристианской аграрной обрядности, магии и колдовства. На этой почве выросло русское сектантство.
Ширится социальный разрыв между дворянством и крестьянством и это заставляет правительство (Петра III, потом Екатерины II) принимать меры. Дворянству было разрешено жить в деревне постоянно в качестве помещиков. Помещичья деятельность стала рассматриваться как служение. Но народного бунта избежать не удалось. Пугачевщина до основания потрясла дворянский мир екатерининской России. Именно это событие заставило имперское дворянство со всей серьезностью и искренностью взглянуть на народ. Но сначала с мистическим страхом. Этот страх довлел над дворянством вплоть до войны 1812 г., когда народ принял активнейшее участие в защите Отечества. Ужас перед народной стихией сменился восхищением народом. Трудно было бы понять народолюбие, которое овладело высшим сословием после войны 1812 г., если бы этим событиям не предшествовал пугачевский бунт. Пушкин в «Капитанской дочке» так и ставит вопрос о преодолении разрыва между аристократией и народом. Эти два события – пугачевщина и война 1812 г. заставили образованную и совестливую часть помещиков обратить особое внимание на народную культуру.
Дворянство меняется. Оно начинает жить на два дома: летом в деревне, зимой в городе. И это обстоятельство, включая непредвзятый взгляд на народ, породило удивительный культурный расцвет в дворянской городской культуре. Наступила классическая пора единения и симпатии дворянства и народа. И это продолжалось до 1861 года!
В XIX в. помещики‐дворяне не только создают классическую русскую литературу – главный плод подлинного народолюбия, но и начинают заниматься исследовательской этнографической деятельностью. Собирают фольклор, обращают пристальное внимание на язык народа. «Безгласное», «малокультурное» крестьянство открывается во всем своем величии и красоте. «Живой великорусский язык» народной речи, ставший текстом, до основания потряс образованное сословие, весь аристократический мир России! «Город» признал не просто равенство с «селом», с крестьянством и его культурой, но и в какой‐то мере увидел его превосходство, его почвенность для себя. Его подлинное значение для русской культуры XIX в. можно назвать эпохой торжества русской народной культуры. Ею восхищаются, ее описывают, ее стараются довести до совершенства в художественных, профессиональных образцах, в социальных и экономических экспериментах.
Но бедный своей традиционностью город, склонный переводить традиционную культуру на язык модерна, не был социально един в своем восхищении простым народом. Кроме помещика, жившего на два дома (сельский и городской), к числу образованных лиц, пристально наблюдавших за народом, можно отнести и дворянскую и разночинную интеллигенцию. Разночинец, живущий только в городе, зарабатывавший себе на жизнь своей профессиональной деятельностью врача, педагога, артиста, ученого, – не был глубоко погружен в пучину народной крестьянской жизни, а был с ней знаком скорее по отголоскам в городской среде. Интеллигентское знание о народе принципиально отличалось от дворянско‐помещичьего. Интеллигент не знал коренной жизни народа и соответственно народной культуры, и в то же время рано стал интересоваться всем, что составляло негативную часть народного бытия. В том числе и в культуре. Интеллигента интересовали не здоровое, церковное православие у народа, а отклонения: сектантство, суеверия и т. п. Интеллигент‐разночинец, по сути, имел превратное представление о крестьянстве. На рубеже 1840‐х годов в городе начинают складываться две разные стратегии отношения к селу и к крестьянству. Оба этих отношения подразумевали симпатии к народу, но при этом одна сторона опиралась в своих оценках на веру и нравственность, другая – атеистическая – на отклонения в народе от норм веры и нравственности.
В результате русский город стал получать не только объективную информацию о крестьянстве, но и крайне субъективную и тенденциозную. Почему же город не отвергал тенденциозную точку зрения на народную культуру, которую распространяли атеистические интеллигентские слои? Это происходило по той причине, что в городе реализовывался не традиционный проект, а модернистский. Как в первом, так и во втором случае народная культура, как лава из вулкана, выплескивалась в город и застывала там. Но только в одном случае – в результате доброй и разумной деятельности с помощью ее отливали подлинные образцы культуры и сохраняли аутентичные традиционным артефакты. В другом случае – готовили «пули» и «бомбы» для наступления на самодержавие, поскольку собирался или обличительный материал о вопиющей бедности, или обличающие власть факты. Таким образом, конец имперской эпохи ознаменовался для русской народной культуры сужением ее возможностей влиять на общество и питать его соками традиции. В результате народная культура доходила до читателя в двух разных видах.
В советский период жизненное и творческое пространство русской народной культуры стало резко сужаться. Репрессии против Православия непосредственно затронули и традиционную культуру. Большевики стали создавать свой искусственный вариант безрелигиозной традиционной (квазитрадиционной) культуры, где главной становится функция утилитарности. Для этого творцы новой культуры, решили вообще не допускать сельскую культуру в город, а встречать ее уже в сельских границах. Они хотели исключить случайность и вариативность, словом, неизбежную сложность, которая возникала, когда продукт народной культуры попадал в город и там, после творческих манипуляций множества людей, превращался в часть культуры модерна. Большевики поступили следующим образом: уже в деревне (через центры кустарных и ремесленных промыслов) они стали создавать готовый продукт традиционной культуры, чтобы не было необходимости в городе заниматься перекодированием и интерпретацией традиционных форм в модернистские. Смысловое, сущностное перекодирование они производили на месте, тем, что лишали изделия связи с православием. Лишь после этой операции народные образцы были годны к употреблению. Жесткий идеологический диктат не мог не сказаться на душе традиционной культуры. Превращая ее в островки профессиональных артелей, советская власть лишала народную культуру связи ее с гущей народной жизни, со стихией, где существовал сложный мир крестьянского социума и природы, мир церковный и мир светский, пропитанный православной духовностью. Лишенная своих живых корней, народная культура была обречена на угасание. Какое‐то время до 1960—1970‐х годов в деревне еще сохранялись отдельные островки живой традиционной культуры, поскольку были живы еще живые носители ее, хотя и исчезло само воспроизводство, сам механизм функционирования традиционной культуры.




