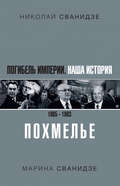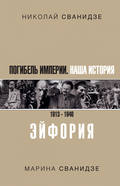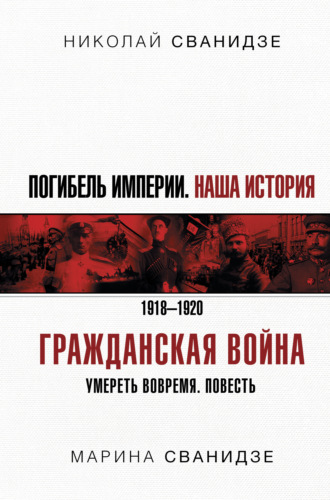
Николай Сванидзе
Погибель Империи. Наша история. 1918-1920. Гражданская война
28 сентября
28 сентября 1918 года вечером на Курском вокзале в Москве началась погрузка золота, которое будет отправлено большевистским правительством в Германию в соответствии с условиями сепаратного Брестского мира. Брестский мир, подписанный 3 марта 1918 года, освобождал Германию от Восточного фронта, позволял перебросить на Западный фронт более 40 дивизий для ведения боевых действий против вчерашних союзников России. Большевикам Брестский мир позволял сосредоточиться исключительно на удержании собственной власти. Если бы большевикам не удалось заключить этот сепаратный мир, немецкие войска, не встречая сопротивления от деградировавшей русской армии, уже дошли бы до Петрограда и большевистская власть была бы сметена.
Развитие событий в России отвечало германским интересам. Следствием большевистского переворота был выход России из мировой войны и обрушение огромного российского промышленного потенциала. Брестский мир отдал под контроль Германии огромные территории бывшей Российской империи, в частности Украину. А это было критически важно для Германии в 1918 году. Немецкая экономика – в жесточайшем кризисе, его ощущает каждая немецкая семья, в стране начинается голод. Хлеб – по карточкам, население сидит на брюкве. Детская смертность в Германии к концу Первой мировой войны выросла на 300 %. При этом Германия продолжает увеличивать производство оружия и боеприпасов. Военные расходы огромные, государственный долг растет, инфляция растет. В этой ситуации сепаратный Брестский мир с большевиками давал Германии определенные экономические надежды, сулил зерно с Украины, нефть из Баку. И не только. Договор, подписанный в Бресте, с самого начала получил золотую составляющую. Речь шла о возмещении убытков, понесенных германским бизнесом и германскими гражданами в России в результате революционных потрясений. Германия хотела пополнить оскудевший за войну золотой запас, большевики, завладевшие российским золотом, использовали его в качестве весомого аргумента при торге с немцами. Но цифры германских убытков в Брестском договоре прописаны не были. До конкретики дело дошло 27 августа 1918 года, когда большевистское правительство и Германия подписали в Берлине в обстановке строжайшей секретности Дополнительное соглашение.
В соответствии с ним Советская Россия соглашается выплатить Германии 6 миллиардов марок. Сумма подлежит выплате через трансферт 245 640 кг чистого золота и 545 миллионов 440 тысяч рублей в кредитных обязательствах, а именно 363 миллиона 628 тысяч рублей в купюрах по 50, 100 и 500 рублей, обеспеченных золотом, и остальную сумму в 181 миллион 813 тысяч в купюрах по 250 и 1000 рублей.
Трансферт подлежал осуществлению в пять траншей. Первый транш должен был быть отправлен не позднее 10 сентября 1918 года. Соглашение подписано 27 августа, значит, на сборы – всего две недели.
Часть золотого запаса России находилась в Казани и уже в августе была изъята воинскими частями генерала Каппеля и чехословаками, совместно воевавшими против большевиков. Золото из Казани перейдет под контроль Колчака. Большевики заберут часть золотого запаса, находившегося в Госбанке в Нижнем Новгороде.
3 сентября 1918 года в Нижний прибыла правительственная комиссия, и силами банковских служащих и чекистов началась работа по упаковке золота в ящики. Работали круглосуточно, 2400 ящиков с золотом погрузили на машины, отвезли на вокзал, перетаскали в вагоны состава с двумя паровозами и отправили в Москву. В Москве слитки из деревянных ящиков переложили в металлические. Добавили необходимую сумму в золотых бумажных рублях и направили эшелон через Оршу в Берлин.
Полномочный представитель Советской России в Германии Иоффе телеграфировал 22 сентября наркому иностранных дел Чичерину: «…я обещал воздействовать, чтобы с нашей стороны и второй взнос прошел так же аккуратно, как и первый. Очень советую это, ибо наши враги постоянно сеют недоверие именно указанием, что мы не в состоянии выполнить своих обязательств».
Ситуация действительно серьезная. Германия до середины лета 1918 года оказывала большевикам материальное содействие, однако со временем в Германии задумались о целесообразности поддержки иных политических сил в России: большевики слишком радикальны, большая часть населения не поддерживает их, а значит, они скоро потеряют власть, размышляли в Германии. В такой ситуации в Москве сделали все, чтобы второй золотой транш прибыл в Германию в срок.
28 сентября 1918 года началась погрузка второго эшелона.
На Курском вокзале загрузили три так называемых американских, то есть особо надежных грузовых вагона. Один пассажирский вагон 1-го класса – для сопровождающих. Переправили поезд на Белорусский вокзал, прицепили к нему бронеплатформу с орудием и пулеметом. Состав должен был отойти по расписанию почтового поезда, но за 10 минут до отправления поступило распоряжение следовать по расписанию скорого.
Впоследствии пошла информация, что эсеры готовили нападение на эшелон с золотом, но отказались от идеи в последний момент.
Станция Орша, куда следовал поезд с золотом, в сентябре 1918 года была поделена: Орша-Пассажирская – в руках большевиков, Орша-Товарная – у немцев. Три вагона с золотом и вагон с сопровождающими были пропущены на немецкую сторону, вагоны с охраной остались по другую сторону шлагбаума.
Это информация из воспоминаний старого банковского работника Бубякина, участника этой операции. До революции он был ответственным кассиром в Госбанке, который вместе с управляющим ставил свою подпись на банковском билете. В 1919 году его подпись также еще встречалась. Он сопровождал золото до Берлина.
Остальные три золотых транша из России в Германию не состоялись.
8 ноября 1918 года в Германии произошла революция, 11 ноября завершилась Первая мировая война, 13 ноября большевики денонсировали Брестский мир.
Вскоре после победы над Германией золото из Рейхсбанка было перевезено в страны-победительницы, часть во Францию, часть в Великобританию. Россия, заключившая сепаратный мир с Германией за полгода до окончания мировой войны, своего золота не получила. Большевики об этом не сожалели. Игра с Германией позволяла им удерживать власть, а это дороже золота.
4 октября
4 октября 1918 года расстреляны священник завода Майкора Александр Федосеев, священник юговского заводского собора Алексей Стабников и священник Свято-Троицкой церкви Константин Широкинский. Все упомянутые заводы и церкви – в Пермской губернии. Двумя днями позже расстрелян диакон Преображенского храма Василий Воскресенский в Соликамске. Та же Пермская губерния. Еще летом 20 июня 1918 года был арестован и убит архиепископ Пермский Андроник. Для расследования дела архиепископа Андроника прибыли члены Поместного собора архиепископ Черниговский Василий, архимандрит, ректор Пермской духовной семинарии Матфей и миссионер Алексий Зверев. Все они были расстреляны в конце августа. Пермская губерния – это фронтовая территория.
Первую половину 1918 года Гражданская война имела очаговый характер, военные столкновения были локальными. Летом начинается оформление фронтов, в первую очередь Восточного фронта. Собственно, это начало организованных профессиональных военных действий двух противоборствующих сил в стране. Убийства красными архиереев и рядовых священников в прифронтовых районах – это даже не репрессии, это вид боевых действий.
На Восточном фронте против большевиков воюет Народная армия Комитета сторонников Учредительного собрания, пестрая по идеологии – от социалистов до монархистов. Плюс воинские части бывших пленных чехословаков. Плюс Сибирская армия Временного Сибирского правительства. Это одно из многих правительств на востоке страны. Объединяющей фигуры Колчака на Восточном фронте еще нет. Боевые действия всех этих сил дополняются антибольшевистскими крестьянскими восстаниями и рабочими выступлениями с требованиями хлеба, свободы слова и перевыборов Советов, захваченных большевиками.
В конце июля большевики оставили Екатеринбург. В августе и сентябре на территории Пермского края на нескольких направлениях идут упорные бои, населенные пункты переходят из рук в руки. В конце сентября – в первые дни октября к Перми прорывается чешская дивизия. И красные едва отбивают эту попытку прорыва. Каждое поражение красных или угроза поражения, любое возмущение крестьян или рабочих вызывают казни. Любая попытка местного священника успокоить враждующие стороны влечет за собой расправу власти над священником.
Тут следует напомнить, что патриарх Тихон и Поместный собор Русской православной церкви, проходивший в 1917–1918 годах, отстаивали принцип церковной аполитичности. Официальная позиция Русской православной церкви однозначна: церковь не участвует ни в политической борьбе, ни в Гражданской войне. Летом 1918 года патриарх отказался благословить белое движение, только чтобы не вовлечь церковь в политическое противостояние. Патриарх также отказал в личном благословении руководителям белого движения. Даже если это осталось бы в тайне.
Позже, в момент успешного наступления на Москву армии Деникина, когда казалось, что большевистская власть будет сметена, патриарх призвал народ к милосердию по отношению к противнику. Но гуманистическая позиция патриарха вряд ли могла быть воспринята населением что при белых, что при красных. Корни проблемы уходят далеко в прошлое. Церковь в течение двух веков находилась в подчинении у государственной власти, ассоциировалась с властью и воспринималась народом как защитница власти. Поэтому разграбления храмов, убийства священников начались еще до прихода большевиков, сразу после падения царской власти. Большевики в собственных целях воспользовались этим массовым настроением, поставив священников в общий ряд эксплуататорских элементов, вместе с помещиками, буржуями и офицерами. То, что церковь обладала большой земельной собственностью при общей нерешенности земельного вопроса в стране, только облегчило задачу большевикам. Крестьяне с равным рвением жгли помещичьим усадьбы и распахивали церковную землю, раскапывали могилы бывших господ и убивали священников. Свидетели событий говорили: целые деревни превращались в злодеев.
На фоне жесточайшей антицерковной политики привлекают внимание некоторые ленинские указания. А именно то, что Ленин заявляет о недопустимости оскорбления чувств верующих. На Первом Всероссийском съезде работниц Ленин сказал: «Бороться с религиозными предрассудками надо чрезвычайно осторожно, много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу оскорбление религиозного чувства». То есть получается, что Ленин у нас первый борец с оскорблением чувств верующих. И даже разрешил по просьбе верующих достроить храм в Ягановской волости Череповецкого уезда. Написал записку: «Окончание постройки храма, конечно, разрешается».
И так много в этой записке от старых добрых дореволюционных отношений власти и церкви, в смысле, когда госчиновники руководят церковью, на самом деле это чистое ленинское лицемерие. С элементами присущего Ленину черного юмора. Церковь как институт и веру в Бога как мироощущение Ленин ненавидел. И эта ненависть была неотъемлемой и очень важной частью коммунистической идеологии. Иногда эта ненависть принимала невинный вид обычного бюрократического документооборота.
«В Совет Народных Комиссаров РФСР кафедрального Чудова монастыря в Кремле младшей братии Покорнейшее прошение
Сим покорнейше просит Вас совет младшей братии Чудова монастыря, не найдете ли возможным возвратить обратно в монастырь из числа выселенных по Вашему распоряжению насельников монастыря хотя бы 12 человек, которые находятся в пожилом возрасте и в священном сане, список коих прилагается… Невозможно нам жить всем отдельно при наших крайне скудных средствах… Имеем долг почтительнейшее поставить Вас в известность, что никто в контрреволюционном выступлении замечен не был.
Председатель домового комитета иеромонах Филарет, за секретаря иеромонах Аркадий».
И вот ответ на прошение:
«Совет Народных Комиссаров, заслушав в заседании вопрос о предоставлении монашествующим жить в кремлевских монастырях, постановил:
В оставлении монашествующих проживать в Кремлевских монастырях – отказать».
Древний Кремлевский Чудов монастырь, о котором идет речь в этой переписке, был уничтожен в 1929 году.
11 октября
11 октября 1918 года в Екатеринодаре, ныне Краснодаре, состоялось первое заседание Особого Совещания при главнокомандующем Добровольческой армией Антоне Ивановиче Деникине. Генерал Деникин заступил на должность главнокомандующего тремя днями раньше, после смерти создателя, инициатора белой армии генерала Алексеева.
Особое Совещание при главнокомандующем Добровольческой армией – это орган гражданской власти, совмещающий в себе законосовещательные и исполнительные функции. При этом многие понимали, что совмещение различных властных функций в Особом Совещании – это недостаток. И военные, и гражданские на белой территории отдавали себе в этом отчет, говорили о необходимости независимого парламента, но руки до этого не дошли.
Гражданское правительство состояло при главнокомандующем, потому что дело происходило во время войны, во время Гражданской войны. Сама конфигурация отвоеванной территории постоянно менялась в силу того, что кругом с переменным успехом шли боевые действия.
Во второй половине 1918 года и в первой половине 1919 года белая армия Деникина на Юге России отвоевала у красных значительную территорию. Казалось, что власть большевиков здесь ликвидирована навсегда. На этой территории надо организовывать гражданское управление, просто налаживать жизнь. Для этого и было создано Особое Совещание. Идея такого органа принадлежала Василию Шульгину, депутату Государственной думы, монархисту, националисту, члену черносотенного Союза Михаила Архангела. При этом Шульгин был в числе тех, кто принимал отречение Николая II и был сторонником этого отречения. Идея Особого Совещания появилась у Шульгина еще при верховном руководителе Добровольческой армии генерале Алексееве, но функционировать оно начало при Деникине. Председатели Особого Совещания менялись, но все они были люди военные.
А состав Совещания был гражданским. Работа этого гражданского общества должна была обеспечить качество тыла наступавшей белой армией. Красные смотрели на это проще и прямо заявляли, что тыл они будут обеспечивать путем террора и это является необходимостью в данной ситуации.
Особое Совещание и прежде всего сам генерал Деникин заявили о «непредрешении», то есть открытости вопроса о дальнейшей форме власти в стране. Все – после войны, после войны, как говорила героиня прекрасного советского фильма «Дом, в котором я живу». Деникин в этом «все после войны» был абсолютно честен и совершенно демократичен по взглядам. И не он один, это было распространенное убеждение тогда и в военной, и в гражданской белой среде. Деникин пишет в своих воспоминаниях, в «Очерках Русской смуты»: «Я решил твердо и говорил об этом не раз – что за форму правления я вести борьбу не буду». Большевики должны были громко смеяться над такими убеждениями, они не откладывали вопрос о власти на потом.
В Особом Совещании представлены правые, но, как пишет Деникин, «умеренно-правые, без мракобесия и нетерпимости». Кроме того, кадеты, то есть либералы. Периодически речь заходила о том, что, может быть, целесообразно привлечь умеренных социалистов.
Но Деникин был против и был тактически прав, потому что призыв, как говорили «безобидных социалистов», не прибавил бы популярности в левых кругах, а в правых вызывал бы лишнее озлобление.
Коалиция правых и кадетов-либералов соответствовала базовым настроениям белого движения на Юге, но в стенах Особого Совещания они с трудом находили компромисс. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что проблемы, которые им надлежало разрешить в срочном порядке, были из числа вечных, застарелых российских проблем. Прежде всего главный российский вопрос о земле. То есть в русской истории не нашлось времени и места для эффективного решения этого вопроса, кроме как в разгар Гражданской войны на территории, которая была сплошным театром военных действий. И теперь решение должны принимать те же люди, которые и в спокойные времена не могли ни на что решиться и не могли представить, чем все обернется и где они окажутся.
Особое Совещание было свободно от дешевого популизма, но Деникин честно пишет: «Наша политика была лишена творческого авантюризма, решительности и напора». Сам Деникин придерживался либеральных взглядов, но говорил правым: «Кончим же это бесцельное и вредное топтание на месте. Берите на себя ответственность, мы отойдем и не будем больше препираться. Нужно, чтобы дело двигалось. В застое его гибель. Нужно выбирать курс и действовать».
Но дело было даже не в правой или либеральной идеологии. И даже не в Особом Совещании. Дело было в людях, которые практически осуществляли власть на местах на белой территории. «Управляющий внутренними делами Чебышев ставил губернаторов почти исключительно из числа лиц, занимавших эти должности до революции, желая использовать их административный опыт. Это были люди, по психологии и мировоззрению, привычкам столь чуждые свершившемуся перевороту, что ни понять, ни подойти к нему они не могли. Для них все было в прошлом, и это прошлое они старались возродить и в формах, и в духе. За ними следом потянулись другие, испуганные, озлобленные и мстящие». Вот как пишет генерал Деникин.
«Нет людей!» – пишет Деникин. Василий Шульгин говорит: «В гражданском управлении выявилось русское убожество, перед которым цепенеет мысль и опускаются руки». Это русский националист Шульгин говорит о российской системе государственного управления. В газетах на белой территории пишут: «Главное внимание должно быть обращено на более молодые поколения. Надо хотеть и искать их».
Деникин многократно предлагал Особому Совещанию привлечь к гражданскому управлению городских, земских общественных деятелей, людей, пользующихся авторитетом. Было даже официальное обращение к общественности с просьбой выдвинуть тех, кто сможет занять посты начальников губерний. Ждали три недели, и никто не отозвался.
Деникин приводит слова одного из членов Особого Совещания: «Дело в том, что мы совершенно не справились с тылом».
В лучшем случае местная власть на белой территории – это чиновники, надеявшиеся на быструю карьеру. Но, как правило, российская бюрократия традиционно выдвигала из своих рядов взяточников, вымогателей, спекулянтов, всех тех, кто всегда, а в войну особенно, использует свою власть, чтобы урвать и из казны, и у населения. По этой власти население судило о Добровольческой армии, которая была далеко, героически гибла на полях сражений, но не имела людей для внятной гражданской работы в тылу.
Старая система управления страной хоронила под собой всякие надежды, уступая место радикалам.
Деникин напишет, что уже в 1920 году, после катастрофы белого движения, многие наперебой стали свидетельствовать, «что знали, предвидели, предостерегали – они, ничего не предвидевшие, слепые и глухие».
19 октября
19 октября 1918 года началась боевая биография легендарного персонажа Гражданской войны Нестора Махно. Сам этот день не был победным для отряда Махно. С 16 по 19 октября этот отряд порядка 200 человек с четырьмя пулеметами и другим оружием стоял в родном селе Махно Гуляйполе. Село было занято после боя с местной вартой. Варта – это Министерство внутренних дел на Украине при гетмане Скоропадском. Соответственно, Махно в Гуляйполе бился с местным правоохранительным подразделением. По данным самого Махно, в плен взяли 83 человека, в качестве трофеев захватили 20 лошадей, 3 пулемета, 12 пулеметных лент, несколько винтовок и бричку патронов. Бричка – это пассажирская повозка, вот Чичиков в «Мертвых душах» ездил в бричке. В случае Махно очевидно, что бричка – краденая, вероятно, раньше. Махновцы и в августе, и в сентябре 1918 года занимались вооруженным грабежом имущества состоятельных лиц, убивали офицеров, забирали оружие, лошадей, седла. Ограбили ссудно-сберегательную кассу в селе Жеребец Гуляйпольской волости, купили американский пулемет системы «Кольт». Вот такие вооруженные, абсолютно безбашенные пришли в Гуляйполе.
Но 19 октября туда подтянулись австро-венгерские регулярные части, махновцы бежали, но через пару дней ввязались в новый бой. Следует напомнить, что в это время мировая война все еще не закончилась. По Брестскому мирному договору, сепаратно заключенному большевиками с Германией, Советская Россия не вмешивается в дела Украины, провозгласившей государственную самостоятельность. При этом австро-германские войска занимают Украину. Как раз от австрийских частей и бежал отряд Махно 19 октября из Гуляйполя, что вполне естественно, потому что австрийские части – регулярные, а махновцы представляют собой лихую, дерзкую шайку. Но сразу после изгнания из Гуляйполя махновцы проходятся по близлежащим богатым крестьянским и помещичьим домам, убивают хозяев, забирают оружие, любые средства передвижения и соединяются с другим таким же отрядом под предводительством Феодосия Щуся.
Щусь – родом из ближайшего села Дибривка, в прошлом матрос. При встрече с Махно одет в снятую с убитого гусарскую немецкую форму, вооружен до зубов. В его отряде все одеты кто во что – кто в немецкой, кто в австрийской форме, кто в крестьянской одежде. Махно в воспоминаниях пишет об этой встрече с Щусем: «Я поставил Щусю вопрос: «Что ты, товарищ Щусь, делал с отрядом до сих пор?» Ответ был краткий: «До сих пор я совершал нападения на помещиков и уничтожал их и всех их охранителей. Иной работы я пока не предвижу, ибо уничтожаемых мною гадов еще очень много…» Я сказал ему: «Я прошу тебя, брось лес, выйди на простор, зови крестьян, особенно крестьянскую молодежь, в революционную бурю…» Товарищ Щусь, по-детски улыбаясь, схватил меня в свои здоровенные объятия, выкрикивая: «Да, я пойду с тобою товарищ Махно!» В отряде раздались возгласы: «Слава! Слава!»
Они идут брать село Дибривка.
Махно идет на разные хитрости, одевается в форму офицера варты, вводит в заблуждение, потом срывает с себя шинель с погонами. Чисто кино «Свадьба в Малиновке». Но кровь льется настоящая. Крестьяне в Дибривке идут друг на друга. Махновцы хватают тех, кого считают кулаками. Крестьяне прибегают к Махно, требуют кулаков в свое распоряжение. Махно вспоминает: «Крестьяне взяли этих кулаков и тут же отрубили им всем головы… Широкая масса тружеников начала ненавидеть так же, как ненавидел их каждый из нас, за их гнусные преступления против всего лучшего, к чему трудовая масса стремилась».
Нестор Махно в отличие от своих бойцов к 1918 году имеет уже большой, если называть вещи своими именами, криминальный опыт. Выходец из бедной семьи, с тремя классами школы, в 16 лет попал под влияние сильного на Юге России анархистского движения. Юный, дикий, энергичный, примкнул к террористам и был приговорен к смертной казни, которую заменили бессрочной каторгой. Вышел на свободу после Февральской революции с ненавистью ко всякой власти вообще. Вернулся к себе на родину в Гуляйполе с ореолом жертвы самодержавия и возглавил группу местных анархистов. Они немедленно приступили к конфискации земли у помещиков и изъятию денег под угрозой смерти.
Весной 1918-го Нестор Махно приехал в Москву. Встретился с идеологом анархизма Кропоткиным. Затем пошел в Кремль к Свердлову. Вход был свободный. Махно шел по длинному коридору, не встречая ни одного человека. Дошел до двери с надписью «ЦК партии» и постучал. Раздался голос: «Войдите». Зашел, спросил, как найти Свердлова. Вызвался проводить человек, в котором Махно признал Бухарина. Дальше в воспоминаниях Махно следует сцена в чистом виде из Булгакова. «Я пошел к указанной мне двери. Постучал. Вошел. Меня встретила девица. Спросила, что мне нужно. «Я хочу видеть председателя Исполнительного Комитета Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов товарища Свердлова,» – ответил я на вопрос девицы. Девица, ничего не говоря, села за письменный стол. Затем взяла мой документ и пропуск в Кремль, кое-что выписала из них, написала мне карточку и указала номер другой двери, куда я должен зайти. Там, куда меня направила девица, помещался крупный мужчина, видно выхоленный, но с изнуренным лицом». Конец цитаты. По идее, дальше пора появляться Коровьеву или Коту. Но мужчина был секретарем Свердлова и проводил Махно к начальнику.
Наконец у Махно была встреча с Лениным: «Вас, товарищ, я считаю человеком кипучей злобы дня, – сказал Ленин Махно. – Если бы таких анархистов-коммунистов была бы одна треть в России, то мы, коммунисты, готовы были бы идти с ними на известные условия и совместно работать».
Махно пишет: «Я лично почувствовал, что начинаю благоговеть перед Лениным». Но устоял. К тому же Махно знал, что большевики уже задавили анархистов, несмотря на то что во время Октябрьского переворота они были союзниками. Махно после московских встреч пришел к прагматическому выводу: на большевистской территории он и анархисты вообще не смогут влиять на ход событий, а на Украине есть хорошие шансы. Любимая махновская идея безвластия, свободы от чиновничества и вообще всех атрибутов государства не могла не поднять низовое массовое движение.
Это был правильный взгляд на текущий момент, хотя теоретиком анархизма Нестор Махно не был. Иногда, по воспоминаниям свидетелей, Махно говорил: «Я первым долгом революционер, а потом анархист». Иногда утверждал, что совсем перестал быть анархистом и все свои силы направит на укрепление советской власти и ликвидацию контрреволюции. Но в практической области его желание вполне определенно: для начала создать вокруг Гуляйполя и со столицей в Гуляйполе территорию безвластия так, как он, Махно, его себе представляет. А это со всей очевидностью говорит о том, что такой Махно, несмотря на временный союз в дальнейшем, большевикам категорически не нужен. И жестоко биться с ним, воевать, придется и красным, и белым.