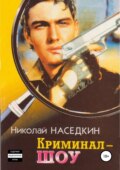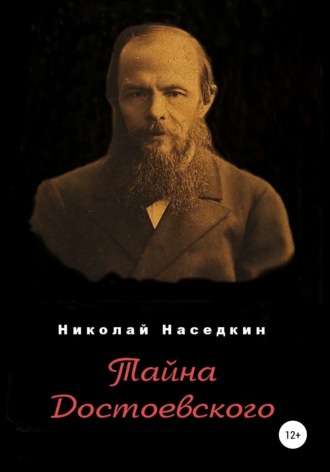
Николай Николаевич Наседкин
Тайна Достоевского
В контексте данной темы (любовь Достоевского к жене) содержится один совершенно, казалось бы, необъяснимый парадокс: безгранично любя Анечку, Аньку, Аню, Анну, Анну Григорьевну – жену, любовницу, мать своих детей, самого близкого и конфиденциального друга-товарища, незаменимого помощника в работе, Достоевский ни разу, ни в едином произведении не вывел её образ, не выплеснул свои чувства к ней на страницах своих поздних романов. Более того, он, диктуя супруге-стенографистке новые произведения, с её помощью вновь и вновь воссоздавал-высвечивал в образах отдельных своих героинь облик и характер незабываемой Аполлинарии… Здесь может быть только одно объяснение: Фёдор Михайлович с помощью своего главного орудия-лекарства – творчества пытался избавиться от мучительной и совершенно уже излишней, ненужной, мешающей жить любви-страсти к Сусловой. Любовь же супружеская, к Анне Григорьевне, настолько была жива, полнокровна, взаимна и счастлива, что не было никакой необходимости и охоты вытеснять-изливать её из собственной души, делиться ею с кем бы то ни было. Достоевскому вполне хватало для полного выражения, так сказать, восторга своих чувств глубоко личных писем к жене. Надо ли говорить, как сама Анна Григорьевна ценила эти письма-признания мужа! Она, по её словам, читала-перечитывала их сотни раз и после смерти Фёдора Михайловича всюду возила с собой, никогда не расставалась с ними и ценила чуть ли не выше всех великих романов мужа-гения[17].
У самой Анны Григорьевны всё наоборот. Она, прекрасно зная-понимая, за кого она вышла замуж, справедливо и дальновидно предполагала, что переписка их с мужем рано или поздно будет опубликована, и потому письма её к безусловно и горячо-пылко любимому супругу гораздо более суше, чем его, по тону, осторожнее по лексике, менее откровенны-открыты в части проявления чувств. Сам Фёдор Михайлович даже укорял жену и обижался не на шутку: «Так как ты присылаешь письма довольно постные, то и я на сей раз не выказываю чувств моих, как прежде, хотя и подтверждаю всё, что писал прежде. Люблю тебя побольше, чем ты меня, это уж конечно…»
Но и в письмах Анны Григорьевны к мужу (их дошло до нас – 75) можно среди сухих домашне-хозяйственных известий и обыденно-бытовых забот о делах и здоровье мужа отыскать строки-крупицы проявления сильных любовных чувств.
Итак, свидетельствует ОНА:
«Цалую милого Фечту (Младшего сына Федю. – Н. Н.) милльоны раз. Ты не поверишь, как мне без него тучно. Милый, милый мой Фечта! (не ты, конечно, а другое дорогое маленькое существо). Я и тебя, милый Федя, очень, очень люблю и скучаю по тебе, вероятно, более, чем ты по мне…» (10 июня 1872 г. – как видим, в данном случае признание в любви выглядит как-то странно, как бы вынужденное, в виде оправдания, но – признание!)
«Я решила тотчас отправить телеграмму и спросить, лучше ли тебе, и если не лучше, то хотела выехать завтра в Петербург. Я живо собралась, но только что вышла в переднюю, как вошёл посланный с телеграммой. Я так была болезненно настроена, что, увидав телеграмму, просто сошла с ума; я страшно закричала, заплакала, вырвала телеграмму и стала рвать пакет, но руки дрожали, и я боялась прочесть что-нибудь ужасное, но только плакала и громко кричала. На мой крик прибежал хозяин и вместе с телеграфистом стали меня успокоивать. Наконец, я прочла и безумно обрадовалась, так что долго плакала и смеялась. Так как я об тебе беспокоилась, то при виде телеграммы мне представилось, или что ты очень плох, или даже умер. Когда я держала телеграмму, то мне казалось, если я прочту, что ты умер – я с ума сойду. Нет, милый Федя, если бы ты видел мой ужасный испуг, ты не стал бы сомневаться в моей любви. Не приходят в такое отчаяние, если мало любят человека…» (16 августа 1873 г. – А это уже непосредственное, искреннее, пред лицом пусть и мнимой, но смертельной опасности из сердца вырвавшееся проявление глубочайших чувств!)
«Милый, милый, тысячу раз милый Федичта, мне без тебя тоже очень, очень скучно. Я очень мечтаю о твоём приезде и рада, что теперь тебе осталось лечиться меньше трёх недель. Твои письма я часто перечитываю и всегда жалею, что нет ещё третьего листа. Каждую ночь я непременно около часу ночи просыпаюсь от сна, в котором видела тебя, и лежу с полчаса, всё тебя себе представляю. Дорогой ты мой, я тебя очень сильно люблю, ценю тебя и уважаю; я знаю, что ни с кем я не была бы так счастлива, как с тобою; знаю, что ты лучший в мире человек. До свидания, моё милое сокровище, цалую и обнимаю тебя много раз, остаюсь любящая тебя страстно жена Аня…» (22 июня 1874 г. – Без комментариев.)
«Спасибо тебе, моё золотое сокровище, за твои милые, дорогие письма. Радуют они меня несказанно. Люблю тебя я, дорогой мой, безумно и очень виню себя за то, что у нас идёт иногда шероховато. А всё нервы, всё они виноваты. Тебя же я люблю без памяти, вечно тебя представляю и ужасно горжусь. Мне всё кажется, что все-то мне завидуют, и это, может быть, так и есть. Не умею я высказать только, что у меня на душе, и очень жалею об этом. А ты меня люби, смотри же, голубчик мой, люби. Цалую и обнимаю тебя горячо и остаюсь любящая тебя чрезвычайно Аня.
Всё вижу восхитительные сны, но боюсь их рассказывать тебе, а то ты Бог знает что пишешь, а вдруг кто читает, каково?..» (11 августа 1879 г. – 12,5 лет супружеской жизни.)
«Ну до свиданья, моё золотое сокровище, но признайся, что ты без меня не можешь жить, а? Я так признаюсь, что не могу и что нахожусь, увы! под сильным твоим влиянием. Крепко обнимаю тебя и цалую тебя нежно-нежно и остаюсь любящая тебя Аня…»[18] (31 мая 1880 г. – Одно из самых последних писем жены к Достоевскому.)
Это – письма. А в художественно-документальных произведениях Анны Григорьевны – «Воспоминаниях» и особенно на страницах расшифрованного дневника периода женевской эмиграции – можно почувствовать-услышать ещё более горячий пульс любовных чувств, казалось бы, осторожно-сдержанной молодой супруги, проявляемых, увы, зачастую через ревность.
Однажды, к примеру, во время совместной прогулки по Женеве Фёдор Михайлович случайно вынул из кармана клочок бумаги с карандашной записью и, когда Анна Григорьевна захотела посмотреть её, – разорвал и выбросил. Происходит-вспыхивает ссора. Они расходятся в разные стороны, но Анна Григорьевна, подозревая, что это была записка от Сусловой, быстро возвращается, подбирает клочки, дома складывает, читает непонятную ей фразу и тут же, по свежим следам, выплёскивает-доверяет свои чувства-переживания интимному стенографическому дневнику:
«Мне представилось, что эта особа приехала сюда в Женеву, что Федя видел её, что она не желает со мной видеться, а видятся они тайно, ничего мне не говоря, а разве я могу быть уверена, что Федя мне не изменяет? Чем я в этом могу увериться? Ведь изменил же он этой женщине, так отчего же ему не изменить и мне? <…> потому-то я дала себе слово всегда наблюдать за ним и никогда не доверяться слишком его словам. Положим, что это должно быть и очень дурно, но что же делать, если у меня такой характер, что я не могу быть спокойной, если я так люблю Федю, что ревную его…»[19]
К слову, о ревности. На склоне лет в свой последний роман писатель-мыслитель включит небольшой, но чрезвычайно ёмкий трактат на тему, которая тревожила-мучила его на протяжении всей сознательной жизни:
«Ревность! “Отелло не ревнив, он доверчив”, заметил Пушкин, и уже одно это замечание свидетельствует о необычайной глубине ума нашего великого поэта. У Отелло просто разможжена душа и помутилось всё мировоззрение его, потому что погиб его идеал. Но Отелло не станет прятаться, шпионить, подглядывать: он доверчив. Напротив, его надо было наводить, наталкивать, разжигать с чрезвычайными усилиями, чтоб он только догадался об измене. Не таков истинный, ревнивец. Невозможно даже представить себе всего позора и нравственного падения, с которыми способен ужиться ревнивец безо всяких угрызений совести. И ведь не то, чтоб это были всё пошлые и грязные души. Напротив, с сердцем высоким, с любовью чистою, полною самопожертвования, можно в то же время прятаться под столы, подкупать подлейших людей и уживаться с самою скверною грязью шпионства и подслушивания. <…> трудно представить себе, с чем может ужиться и примириться и что может простить иной ревнивец! Ревнивцы-то скорее всех и прощают, и это знают все женщины. Ревнивец чрезвычайно скоро (разумеется, после страшной сцены вначале) может и способен простить, например, уже доказанную почти измену, уже виденные им самим объятия и поцелуи, если бы, например, он в то же время мог как-нибудь увериться, что это было “в последний раз” и что соперник его с этого часа уже исчезнет, уедет на край земли, или что сам он увезёт её куда-нибудь в такое место, куда уж больше не придёт этот страшный соперник. Разумеется, примирение произойдёт лишь на час, потому что если бы даже и в самом деле исчез соперник, то завтра же он изобретёт другого, нового и приревнует к новому. И казалось бы, что в той любви, за которою надо так подсматривать, и чего стоит любовь, которую надобно столь усиленно сторожить? Но вот этого-то никогда и не поймёт настоящий ревнивец, а между тем между ними, право, случаются люди даже с сердцами высокими. Замечательно ещё то, что эти самые люди с высокими сердцами, стоя в какой-нибудь каморке, подслушивая и шпионя, хоть и понимают ясно “высокими сердцами своими” весь срам, в который они сами добровольно залезли, но однако в ту минуту, по крайней мере пока стоят в этой каморке, никогда не чувствуют угрызений совести…»
Сколько же здесь личного! И сколько в страстном и всепрощающем ревнивце Мите Карамазове от самого Достоевского, и особенно, без сомнения, от Достоевского периодов любви-отношений с Марией Дмитриевной Исаевой и Аполлинарией Сусловой. Как мы помним, будущий автор «Братьев Карамазовых», переживая эти бурные романы, доходил от приступов ревности в такое отчаяние, что желал порой разом и кардинально разрешить эту муку любым, даже самым фантастическим образом. Обыкновенно патологические ревнивцы – это потенциальные убийцы-преступники, но нередки и случаи, когда несчастный человек, физически уничтожив соперника и, тем более, изменницу жену, следом кончает и с собой. Бывает, что ревность доводит впечатлительного человека до суицида, когда веско и неопровержимо подтверждается фактом измены.
Достоевский никогда не позволял себе желать несчастий и бед своим счастливым соперникам и, уж тем более, – любимой женщине. Попросту говоря, он либо стушёвывался-самоустранялся из треугольника, жертвуя своей любовью (как в реальном романе с Марией Дмитриевной и в литературно-художественном – «Униженные и оскорблённые»), либо продолжал терзать-мучить себя, не в силах расстаться с любимой женщиной и поминутно думал о «прыжке в пропасть» (как в реальных отношениях с Аполлинарией и книжно-романных между Игроком и Полиной).
Совершенно не то в случае с Анной Григорьевной. Здесь у Достоевского чуть ли не с первых дней начал проявляться прямо-таки норов отца, жёсткого домостроевца, – сказались гены. Младший брат писателя Андрей вспоминал, какие тяжёлые сцены ревности устраивал папенька своей жене.
Первая серьёзная сцена ревности в семье Достоевских случилась-вспыхнула через полтора месяца после венчания, когда молодые находились в Москве как бы в свадебном путешествии. Они проводили вечер в доме у родственников Фёдора Михайловича, и Анна Григорьевна позволила себе пообщаться-поговорить чересчур оживлённо с неким остроумным и весёлым юношей. Мало этого, за ужином они сели рядом и продолжили интенсивно знакомиться, несмотря на всё более темневшее лицо Достоевского, сидящего напротив. Дальше происходят поразившие и даже напугавшие юную супругу вещи:
«Тотчас после ужина мы уехали домой. Всю длинную дорогу Фёдор Михайлович упорно молчал, не отвечая на мои вопросы. Вернувшись домой, он принялся ходить по комнате и был, видимо, сильно раздражён. Это меня обеспокоило, и я подошла приласкать его и рассеять его настроение. Фёдор Михайлович резко отстранил мою руку и посмотрел на меня таким недобрым, таким свирепым взглядом, что у меня замерло сердце.
– Ты на меня сердишься, Федя? – робко спросила я. – За что же ты сердишься?
При этом вопросе Фёдор Михайлович разразился ужасным гневом и наговорил мне много обидных вещей. По его словам, я была бездушная кокетка и весь вечер кокетничала с моим соседом, чтобы только мучить мужа. Я стала оправдываться, но этим только подлила масла в огонь. Фёдор Михайлович вышел из себя и, забыв, что мы в гостинице, кричал во весь голос. Зная всю неосновательность его обвинений, я была обижена до глубины души его несправедливостью. Его крик и страшное выражение лица испугали меня. Мне стало казаться, что с Фёдором Михайловичем сейчас будет припадок эпилепсии или же он убьёт меня. Я не выдержала и залилась слезами…»[20]
В «Воспоминаниях» Анны Григорьевны о приступах ревности мужа речь идёт не так часто, как о приступах-припадках эпилепсии, но тема эта тоже одна из сквозных. Чего стоит признание мемуаристки, относящееся к самым последним годам жизни мужа, когда он активно участвовал в литературных вечерах и брал на них с собой жену: «К сожалению, эти мои выезды в свет нередко омрачались для меня совершенно неожиданными и ни на чём не основанными приступами ревности Фёдора Михайловича, ставившими меня иногда в нелепое положение…»[21] И далее приводится пример действительно совершенно нелепого и даже комичного случая, как муж приревновал Анну Григорьевну к товарищу своей юности, а на тот момент уже седовласому старику Д. В. Григоровичу, который, здороваясь, всего только галантно поцеловал ей ручку…
Но здесь стоит привести ещё более характерный и впечатляющий эпизод вспышки ревности Достоевского, которая могла иметь очень даже трагические последствия. Случилось это в мае 1876 года. Анна Григорьевна в один из недоброй памяти весенних дней вздумала легкомысленно пошутить: переписала слово в слово грязное анонимное письмо из романа С. Смирновой «Сила характера», который только-только, буквально накануне, прочёл в «Отечественных записках» муж, и отправила его почтой на имя Фёдора Михайловича. На другой день, после весёлого и шумного семейного обеда, когда супруг удалился со стаканом чая к себе в кабинет читать свежие письма и уже должен был, по плану Анны Григорьевны, узнать из анонимного послания, что-де «близкая ему особа так недостойно его обманывает» и что ему стоит посмотреть-узнать, чей это портрет она «на сердце носит», – шутница пошла к нему, дабы вместе посмеяться.
«Я вошла в комнату, села на своё обычное место около письменного стола и нарочно завела речь о чём-то таком, на что требовался ответ Фёдора Михайловича. Но он угрюмо молчал и тяжёлыми, точно пудовыми, шагами, расхаживал по комнате. Я увидела, что он расстроен, и мне мигом стало его жалко. Чтобы разбить молчание, я спросила:
– Что ты такой хмурый, Федя?
Фёдор Михайлович гневно посмотрел на меня, прошёлся ещё раза два по комнате и остановился почти вплоть против меня.
– Ты носишь медальон? – спросил он каким-то сдавленным голосом.
– Ношу.
– Покажи мне его!
– Зачем? Ведь ты много раз его видел.
– По-ка-жи ме-даль-он! – закричал во весь голос Фёдор Михайлович; я поняла, что моя шутка зашла слишком далеко, и, чтобы успокоить его, стала расстёгивать ворот платья. Но я не успела сама вынуть медальон: Фёдор Михайлович не выдержал обуревавшего его гнева, быстро надвинулся на меня и изо всех сил рванул цепочку. Это была тоненькая, им же самим купленная в Венеции. Она мигом оборвалась, и медальон остался в руках мужа. Он быстро обошёл письменный стол и, нагнувшись, стал раскрывать медальон. Не зная, где нажать пружинку, он долго с ним возился. Я видела, как дрожали его руки и как медальон чуть не выскользнул из них на стол. Мне было его ужасно жаль и страшно досадно на себя. Я заговорила дружески и предложила открыть сама, но Фёдор Михайлович гневным движением головы отклонил мою услугу. Наконец, муж справился с пружиной, открыл медальон и увидел с одной стороны – портрет нашей Любочки, с другой – свой собственный. Он совершенно оторопел, продолжал рассматривать портрет и молчал.
– Ну, что нашёл? – спросила я. – Федя, глупый ты мой, как мог ты поверить анонимному письму?
Фёдор Михайлович живо повернулся ко мне.
– А ты откуда знаешь об анонимном письме?
– Как откуда? Да я тебе сама его послала!
– Как сама послала, что ты говоришь! Это невероятно!
– А я тебе сейчас докажу!
Я подбежала к другому столу, на котором лежала книжка “Отечественных записок”, порылась в ней и достала несколько почтовых листов, на которых вчера упражнялась в изменении почерка.
Фёдор Михайлович даже руками развёл от изумления.
– И ты сама сочинила это письмо?
– Да и не сочиняла вовсе! Просто списала из романа Софии Ивановны. Ведь ты вчера его читал: я думала, что ты сразу догадаешься.
– Ну где же тут вспомнить! Анонимные письма все в таком роде пишутся. Не понимаю только, зачем ты мне его послала?
– Просто хотела пошутить, – объясняла я.
– Разве возможны такие шутки? Ведь я измучился в эти полчаса!
– Кто ж тебя знал, что ты у меня такой Отелло и, ничего не рассудив, полезешь на стену.
– В этих случаях не рассуждают! Вот и видно, что ты не испытала истинной любви и истинной ревности.
– Ну, истинную любовь я и теперь испытываю, а вот что я не знаю “истинной ревности”, так уж в этом ты сам виноват: зачем ты мне не изменяешь? – смеялась я, желая рассеять его настроение, – пожалуйста, измени мне. Да и то я добрее тебя: я бы тебя не тронула, но уж зато ей, злодейке, выцарапала бы глаза!!
– Вот ты всё смеёшься, Анечка, – заговорил виноватым голосом Фёдор Михайлович, – а, подумай, какое могло бы произойти несчастье! Ведь я в гневе мог задушить тебя! Вот уж именно можно сказать: Бог спас, пожалел наших деток! И подумай, хоть бы я и не нашёл портрета, но во мне всегда оставалась бы капля сомнения в твоей верности, и я бы всю жизнь этим мучился. Умоляю тебя, не шути такими вещами, в ярости я за себя не отвечаю!
Во время разговора я почувствовала какую-то неловкость в движении шеи. Я провела по ней платком, и на нём оказалась полоска крови: очевидно, сорванная с силою цепочка оцарапала кожу. Увидев на платке кровь, муж мой пришёл в отчаяние…»[22]
Как видим, опять всплывает имя Отелло, и Достоевский, опять же не шутя, восклицает, что способен задушить из ревности и что в ярости за себя не отвечает. Между прочим, именно в этот период Фёдор Михайлович желал сыграть, мечтал сыграть роль Отелло в одном из домашних спектаклей у Штакеншнейдеров. И здесь ещё раз стоит перечитать рассуждения автора «Братьев Карамазовых» о мнении Пушкина, что Отелло не ревнив, он доверчив, и вспомнить в этой связи непохожесть ревности Достоевского периода ухаживания за Марией Дмитриевной и периода семейной жизни с Анной Григорьевной. Проницательно и убедительно, на мой взгляд, объяснил этот феномен И. Л. Волгин: «Когда в Сибири он сватался к Марии Дмитриевне Исаевой, он был прекрасно осведомлен о её отношениях к местному учителю Вергунову <…> Мария Дмитриевна и не думала скрывать своей связи. Здесь не было обмана. В истории же с поддельным анонимным письмом его потрясла возможность неправды, лжи – тайной измены любимой женщины, жены, матери его детей…»[23]
Итак, ревность Достоевского-мужа всегда агрессивно однонаправлена в сторону жены – с соперниками он даже и не пытается выяснять отношения. А уж, казалось бы, чего проще и естественнее – сделать тут же по горячим следам старому приятелю Григоровичу замечание: не смей, дескать, целовать руку моей жене! Нет, весь напор ревности вынуждена принимать на себя только Анна Григорьевна.
Ну, а сама она, со своей стороны, как себя ведёт, как играет роль Отелло в юбке? О женевском эпизоде с письмом Сусловой мы уже знаем. А давайте вчитаемся ещё раз в её попутное и как бы полушутливое замечание в финале сцены с медальоном: «…я бы тебя не тронула, но уж зато ей, злодейке, выцарапала бы глаза!!» Здесь и курсив, и двойной восклицательный знак – это всё Анны Григорьевны, даже годы спустя после смерти мужа впадающей в бойцовско-агрессивное состояние при мысли об его измене.
А поводы для ревности своей молодой жене поначалу обильно давал сам Достоевский. Он с первых же дней знакомства просто поразил Анну Григорьевну своей откровенностью самого интимного свойства. Во время диктовки «Игрока» (который, к слову, – сам по себе донельзя исповедально-откровенный в этом плане) он пускается в подробности своего ещё не до конца угасшего романа с Сусловой… Он подробно рассказывает полузнакомой стенографке о своём сватовстве к А. В. Корвин-Круковской… Эти его откровенности занозами засели в памяти сначала невесты, а потом и жены, побуждая её к подозрительности (раз мог изменять Марии Дмитриевне, значит способен изменить и ей!). Но ведь и сам Фёдор Михайлович как бы провоцировал подозрение, слежку и перлюстрацию со стороны юной супруги. Он продолжал переписываться с Сусловой, он рисовал и рисовал её образ в своих новых произведениях…
Сцена в Женеве – это как бы отголосок ещё более бурного эпизода, случившегося в первые дни их эмиграции, в Дрездене. К своему счастью, Анна Григорьевна никогда не прочла письмо своего мужа к Сусловой от 23 апреля /5 мая/ 1867 года (оно было впервые опубликовано в 1923 г.) – думается, тон и некоторые выражения этого письма весьма бы её покоробили: «Стало быть, милая, ты ничего не знаешь обо мне <…>. Я женился в феврале нынешнего года <…> Милюков посоветовал мне взять стенографа, чтоб диктовать роман <…>. Стенографка моя Анна Григорьевна Сниткина, была молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрезвычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно. <…> При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она всё больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я и предложил ей за меня выйти. Она согласилась, и вот мы обвенчаны…»
Итак, женился он на ней от скуки… Видимо, отголоски такого чудовищного и как бы оправдательного заявления в ответном письме Сусловой (оно не сохранилось) аукнулись, ибо Анна Григорьевна, вскрыв её послание (муж находился в отъезде) и прочитав, комментирует в дневнике своё мнение, что-де это «очень глупое и грубое письмо», и добавляет: «Я два раза прочла письмо <…> подошла к зеркалу и увидела, что у меня всё лицо в пятнах от волнения…»[24] К слову, за несколько дней до того Анна Григорьевна перлюстрировала ещё одно письмо Сусловой, пока муж в кафе читал газеты, и была по прочтении так потрясена-взволнована, что довела себя до истерики, боясь возобновления старой привязанности мужа.
Простодушная уверенность Анны Григорьевны в необходимости перлюстрации и слежки ради удержания мужа и сохранения любви – умиляет. Позже, когда она убедилась-поверила, что с главной соперницей, Аполлинарией Сусловой, действительно у мужа всё и вся покончено, Анна Григорьевна ревность стала проявлять не так бурно, но рецидивы случались. Недаром же Фёдор Михайлович в письме из Эмса (от 16 /28/ июня 1874 г.), упоминает, что-де она боится, как бы он не «пустился» за другими женщинами за границей, вдали от жены. И совершенно наивно-трогательно воспринимается в этом плане замечание Л. Ф. Достоевской в книге «Достоевский в изображении своей дочери», где она пишет о том, как в последние годы своей жизни её отец стал часто посещать салон графини Толстой, вдовы поэта А. К. Толстого: «Моя мать, хотя и была немного ревнива, но соглашалась с тем, что её муж часто посещал графиню, которая в то время уже вышла из возраста соблазнительницы…»[25]
И всё же кратковременные разлады из-за необоснованной ревности, денежные затруднения и прочие тёмные облачка на небосклоне семейной жизни четы Достоевских не заслоняли главного – несомненного счастья этого брака. Анна Григорьевна стала доподлинным ангелом-хранителем Достоевского. Господь послал её Фёдору Михайловичу как награду за муки. «Ах, зачем Вы не женаты и зачем у Вас нет ребёнка, многоуважаемый Николай Николаевич! Клянусь Вам, что в этом 3/4 счастья жизненного, а в остальном разве только одна четверть…», – пылко восклицает он в письме к Н. Н. Страхову в 1870-м, ещё ощущая себя молодожёном. «До свидания, моя дорогая, желанная и бесценная, целую твои ножки…», – так заканчивает одно из самых последних писем к жене Достоевский в 1880-м…
Безусловно то, что именно Анна Григорьевна просто-напросто продлила его дни. Без её ухода, ласки, заботы, помощи, без её ЛЮБВИ он сгорел бы, умер намного раньше января 1881-го. И можно серьёзно утверждать-предполагать, что не будь в жизни-судьбе Достоевского Анны Григорьевны, мы бы, по крайней мере, даже первый роман «Братьев Карамазовых» не имели, не узнали бы… Право, стоит вспомнить-процитировать замечательные слова самой Анны Григорьевны:
«Мне всю жизнь представлялось некоторого рода загадкою то обстоятельство, что мой добрый муж не только любил и уважал меня, как многие мужья любят и уважают своих жен, но почти преклонялся предо мною, как будто я была каким-то особенным существом, именно для него созданным, и это не только в первое время брака, но и во все остальные годы до самой его смерти. А ведь в действительности я не отличалась красотой, не обладала ни талантами, ни особенным умственным развитием, а образования была среднего (гимназического). И вот, несмотря на это, заслужила от такого умного и талантливого человека глубокое почитание и почти поклонение…»[26]
Но любовь её к мужу была не только безграничной, но и деятельной. После смерти Достоевского она выпустила 7 собраний его сочинений, активно помогала составителям книги «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского» (1883), выпустила «Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского» (1906), написала «Воспоминания» (1911—1916 гг.), работала над расшифровкой своего «Женевского дневника» 1867 г., готовила к изданию отдельной книгой письма Достоевского к ней…
Умерла Анна Григорьевна в Ялте в голодном военном 1918 г., а через 50 лет прах её был перенесён в Александро-Невскую лавру и захоронен рядом с могилой мужа – как она и мечтала.
На первой странице своего великого романа-завещания «Братья Карамазовы» Достоевский кратко написал: «Посвящается Анне Григорьевне Достоевской». За полтора года до смерти, 6 января 1917 г., А. Г. Достоевская записывает в альбом композитора С. С. Прокофьева (автора оперы «Игрок») не менее кратко и также глубинно многозначно: «Солнце моей жизни – Фёдор Достоевский».
В год смерти Достоевского Анне Григорьевне исполнилось 35 лет. Говорят, на настойчивые вопросы, почему она вторично не выйдет замуж, она вполне серьёзно отвечала: мол, а за кого же после Фёдора Михайловича можно выйти, если у Льва Толстого жена уже есть?..
Великая жена великого человека!
/2021/