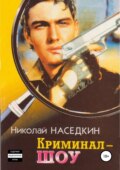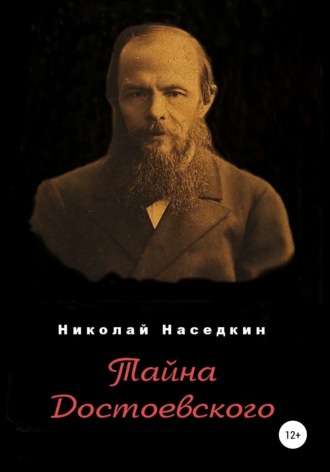
Николай Николаевич Наседкин
Тайна Достоевского
Достоевский возлагал очень большие надежды на эту любовь. Она возродила его мечты на подлинные, настоящие и животворные отношения с женщиной, которые только и смогут сделать жизнь мужчины по-настоящему полноценной и счастливой. В наши планы не входит разбор нравственных аспектов данного вопроса (уж применим-используем сухой научный оборот!), нам важно проследить-выяснить, как был наказан Судьбою за свою безумную страсть писатель-реалист, потерявший голову и забывший напрочь о жёстком и жестоком реализме действительной жизни. Небеса, конечно же, никак не могли одобрить-благословить эту связь, эту преступную с точки зрения морали и строгих моралистов любовь-страсть.
Итак, Аполлинария первой, не дождавшись Достоевского (катастрофа с закрытием «Времени» задержала его), выезжает за границу и ждёт-дожидается Фёдора Михайловича в Париже. Заметим, к слову, что крушение журнала уже можно рассматривать как наказание свыше за безрассудную и преступную связь. Но истомившийся до предела любовник, вырвавшийся наконец из России, и не подозревает, что произошло-свершилось уже и катастрофическое крушение его любви и что в Париже ему предстоит упасть в бездну отчаяния. Для реализма исследования следует упомянуть, что не только предмет любви влёк Достоевского за границу. Конечно, любимая, желанная и также сгорающая (как ему ещё грезилось) от взаимной страсти женщина, это, разумеется, – во-первых. Во-вторых, он снова, увидит-посмотрит Европу, свои любимые уже места и шедевры мировой живописи. Ну а в-третьих, наконец-то суждено ему и в полной мере вкусить пьянящую, колдовскую, сладкую отраву рулеточной игры, сорвать в единый миг громадный куш и выскочить в конце концов из нищеты-бедности раз и навсегда, о чём он тоже давно уже в мечтах грезил…
«Во-вторых» удалось-получилось вполне: писатель вновь, как и за год до того, успел за короткий срок побывать в Германии, Франции, Швейцарии, Италии. Что касается «в-третьих», то и это поначалу удалось-свершилось словно бы по волшебству: в первую же игру в Висбадене Достоевский выигрывает громадную для него сумму – 10 000 франков. Это примерно около 2500 рублей, и если учесть, что Фёдор Михайлович выехал из Петербурга с теми жалкими остатками от 1500 рублей, выданных ему в долг Литфондом, что сохранились после расчёта с кредиторами и оставления некоторых сумм на расходы жене, пасынку и вдове брата, то можно представить, каким Крёзом почувствовал-ощутил он себя и в какой эйфории пребывал-находился после баснословного выигрыша. Правда, уже вскоре он проиграл пять тысяч франков. Фёдору Михайловичу удалось каким-то чудом прервать опьянение игрой, скрутить себя и уехать из Висбадена с этой половиной выигрыша прочь и подальше. Отослав часть денег страждущим родственникам в Петербург, он устремляется, наконец, в Париж, где его уже дожидается ужасный провал-катаклизм с его мечтательным пунктом «во-первых».
Вот здесь-то и проявился ещё раз наглядно «закон спирали» в судьбе Достоевского: как и в случае с Марией Дмитриевной за несколько лет до того, всё повторилось вплоть до деталей: вновь стоило Фёдору Михайловичу отпустить от себя любимую, как на пути её встречается молодой и совершенно ничтожный красавчик, и возлюбленная Достоевского теряет голову, предаёт их жаркую любовь и вообще собирается связать свою жизнь-судьбу с новым любовником.
Исследователям-биографам Достоевского повезло, что в данной истории любви оба главных героя – литераторы. И Аполлинария Суслова создала-сочинила на этом материале свою уже давно забытую читателями повесть «Чужая и свой», и Фёдор Михайлович написал свой известный роман «Игрок», а кроме того многие страницы дневника Сусловой посвящены её взаимоотношениям с Достоевским, и нередко в письмах писателя тех лет упоминается имя Аполлинарии.
Хотя бы пунктирно вспомним-восстановим фабулу этой любовной драмы. Суслова встречает в Париже некоего молодого студента-испанца Сальвадора, влюбляется, отдаётся ему и пытается предупредить-остановить Достоевского от приезда письмом-признанием: «Ты едешь немного поздно…» Фёдор Михайлович не успел получить ошеломительное письмо-известие и вынужден был пережить-вынести потрясение в непосредственном разговоре-объяснении с любимой. Вот как по горячим следам изобразила мелодраматично эту доподлинно драматическую сцену сама Аполлинария в своём дневнике. Она сообщила ему, что уже поздно:
«Он опустил голову.
– Я должен всё знать, пойдём куда-нибудь и скажи мне, или я умру…
<…> Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал: “Я потерял тебя, я это знал!..”»
Простим третьестепенной писательнице Сусловой это «с рыданием… зарыдал», но предельное отчаяние Фёдора Михайловича она передать сумела. И дальше в дневнике – поразительная подробность, совершенно точно и знаменательно характеризующая автора «Белых ночей», «Униженных и оскорблённых» и повторяющая-копирующая, опять же, его сибирский период жениховства. Он выпытывает у Сусловой, кто же такой его счастливый соперник и, узнав подробности, ощущает «гадкое», но даже в чём-то и утешительное чувство: «…ему стало легче, что это не серьёзный человек, не Лермонтов». Надо полагать, пошли Судьба соперниками Достоевскому не ничтожных вергуновых-сальвадоров, а Лермонтова или, допустим, Льва Толстого, то Фёдор Михайлович вряд ли пережил бы тогда победу такого соперника…
Пока же он, совершенно в духе и стиле своих героев, уговаривает Аполлинарию не порывать до конца отношений с ним, Достоевским, он согласен оставаться-быть всего лишь другом, братом – кем угодно, лишь бы находиться рядом, сохранять хоть какие-то надежды на возвращение её любви и совершить вместе, как они и мечтали, путешествие по Европе. И, как ни поразительно, именно так всё и случилось-произошло: они действительно путешествовали вместе (испанец, как говорится, добившись своего, вскоре Суслову бросил), останавливались в гостиницах в одном номере, правда, двухкомнатном, но всё время находились вдвоём, наедине, и отношения между ними установились совершенно фантасмагорические. Вот ещё характерные фрагменты дневника Аполлинарии:
«…Часов в десять (вечера) мы пили чай. Кончив его, я, так как в этот день устала, легла на постель и попросила Фёдора Михайловича сесть ко мне ближе. Мне было хорошо. Я взяла его руку и долго держала в своей. Он сказал, что ему так очень хорошо сидеть. <…> Вдруг он внезапно встал, хотел идти, но запнулся за башмаки, лежавшие подле кровати, и так же поспешно воротился и сел.
– <…> Ты не знаешь, что сейчас со мной было! – сказал он с странным выражением.
– Что такое? – Я посмотрела на его лицо, оно было очень взволнованно.
– Я сейчас хотел поцеловать твою ногу.
– Ах, зачем это? – сказала я в сильном смущении, почти испуге и подобрав ноги.
– Так мне захотелось, и я решил, что поцелую.
Потом он меня спрашивал, хочу ли я спать, но я сказала, что нет, хочется посидеть с ним.
<…> Потом он целовал меня очень горячо…
<…> Сегодня он напомнил о вчерашнем дне и сказал, что был пьян.
<…> Вчера Фёдор Михайлович опять ко мне приставал. Он говорил, что я слишком серьёзно и строго смотрю на вещи, которые того не стоят…
<…> У него была мысль, что это каприз, желание помучить.
– Ты знаешь, – говорил он, – что мужчину нельзя так долго мучить, он, наконец, бросит добиваться…
<…> Я с жаром обвила его шею руками и сказала, что он для меня много сделал, что мне очень приятно.
– Нет, – сказал он печально, – ты едешь в Испанию.
Мне как-то страшно и больно – сладко от намёков о С<альвадоре>. <…> Какая бездна противоречий в отношениях его ко мне!
Фёдор Михайлович опять всё обратил в шутку и, уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять (это было в 1 час ночи. Я раздетая лежала в постели). “Ибо россияне никогда не отступали…”»[9]
Только представить себе: Аполлинария мечтает-грезит о Сальвадоре, но не в силах пока расстаться и с Достоевским; он же сгорает от страсти к ней, жаждет добиться прежней близости, предлагает постоянно-настойчиво руку и сердце (ещё при живой-то жене!), однако ж, она жестоко кокетничает-играет с ним, поддерживая пламя его страсти, но почти не допуская к себе, и, по горькой догадке-утверждению Фёдора Михайловича, не может ему простить, что отдала ему свою невинность и теперь мстит. Но она, в свою очередь, вероятно, искренне была убеждена, что это он её заставлял и заставляет страдать и признаётся уже позже (запись от 24 сентября 1864 года), что порою просто ненавидела его за эти причиняемые ей страдания…
Во многом убедительные акценты во взаимоотношениях писателя с Аполлинарией расставил ещё А. С. Долинин в 1928 году во вступительной статье к книге А. П. Сусловой «Годы близости с Достоевским»[10]. Так, нельзя не согласиться с известным достоевсковедом, к примеру, в том, что глубинные психологические мотивы их любви-ненависти можно обнаружить в «Записках из подполья», в «Идиоте» (Настасья Филипповна – Тоцкий) и даже в «Исповеди Ставрогина». Суслова объясняла в дневнике причину вспышек своей ненависти к Достоевскому, в частности, и тем, что он «первый убил в ней веру». Он, со своей стороны, понимал это, чувствовал-осознавал вину свою: недаром идея «Записок из подполья» вытеснила на время идею-замысел «Игрока», который был задуман раньше. Нет, сначала как бы покаяние, исповедь, потом – описание, сам роман. Да, такова натура, такова двойственность! Искренне, совершенно искренне собирается-мечтает быть только братом, спасителем, утешителем, а в результате опять побеждает двойник, сладострастное второе «я».
Сама Аполлинария, прочитав ещё только первую часть «Записок из подполья» и не догадываясь о непосредственных перекличках сюжета-содержания повести с их историей любви, упрекала в письме автора: «Что ты за скандальную повесть пишешь? <…> Мне не нравится, когда ты пишешь цинические вещи. Это тебе как-то не идёт…»[11] Надо думать, вторую часть «Записок из подполья» Суслова читала не так брюзгливо и более заинтересованно. Она не могла не разглядеть, не вспомнить в мучительных сценах повествования Достоевского отблески мучительных сцен их совместного житья-сосуществования в гостиницах Парижа и Италии…
А они и тогда, и ещё некоторое время потом друг друга мучили, мучили и мучили. Без меры и бесконечно.
Позже в письме к сестре Аполлинарии, Надежде Прокофьевне, уже слегка остыв, Достоевский всё равно сверхэмоционально описывает-оценивает свою возлюбленную и свои взаимоотношения с нею, не в состоянии скрыть-затушевать свою яростную обиду: «Аполлинария – больная эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она колет меня до сих пор тем, что я не достоин был любви её, жалуется и упрекает меня беспрерывно, сама же встречает меня в 63-м году в Париже фразой: “Ты немножко опоздал приехать”, то есть что она полюбила другого, тогда как две недели тому назад ещё горячо писала, что любит меня. Не за любовь к другому я корю её, а за эти четыре строки, которые она прислала мне в гостиницу с грубой фразой: “Ты немножко опоздал приехать”. (В обиде-гневе у профессионального писателя проскакивает не совсем точное словцо-определение: фраза, так ранившая его сердце и запавшая в память, не «грубая», она – издевательская, почти ёрническая, уничижительно-насмешливая по смыслу и лексической окраске! – Н. Н.)
<…> Я люблю её ещё до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить её. Она не стоит такой любви. Мне жаль её, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна…»
И чуть дальше в этом письме прорывается настоящий вскрик-стон доведённого уже до полного отчаяния человека: «…Ведь она знает, что я люблю её до сих пор. Зачем же она меня мучает? Не люби, но и не мучай…»
Их трагедия усугублялась ещё и тем, что оба они одновременно выступали и в роли волка, пожирающего овцу, и в роли овцы, пожираемой волком. Если в Подпольном человеке, Тоцком и даже Ставрогине в этом плане есть толика самого Достоевского, то Аполлинарию Суслову писатель, несомненно, в большей или меньшей степени помнил-вспоминал (кроме упоминаемых уже Настасьи Филипповны, Лизы и Катерины Ивановны) при создании и таких героинь-мучительниц, как Авдотья Романовна Раскольникова («Преступление и наказание»), Аглая Епанчина («Идиот»), Ахмакова («Подросток»), Грушенька («Братья Карамазовы»), но в первую очередь, повторимся, – Полина из «Игрока».
О степени отчаяния Достоевского («Не люби, но и не мучай…») можно составить представление, вчитываясь именно в текст этого романа. И для начала, как это ни парадоксально, следует обратить внимание не на главного героя, Алексея Ивановича, – безусловного alter ego автора, а на генерала, вернее, на одно существенное замечание по его адресу. Вот оно: «…генерал так влюбился, что, пожалуй, застрелится, если mademoiselle Blanche его бросит. В его лета так влюбляться опасно…»
Достоевскому в «годы близости» с Сусловой было уже за сорок, он был старше её почти вдвое и, конечно же, в этом плане как бы является прототипом генерала, а не Алексея Ивановича, которому всего лишь чуть больше двадцати. Именно в лета Фёдора Михайловича так влюбляться было опасно, это ему впору было застрелиться, когда он узнал от юной Аполлинарии о своей унизительной отставке. И здесь есть ещё один чрезвычайно существенный нюанс, который весьма многознаменателен. Дело в том, что замечание-реплика по поводу гипотетического самоубийства генерала от несчастной любви принадлежит Алексею Ивановичу, и произносит-роняет он его в разговоре с Полиной. И как же реагирует она? Полина задумчиво соглашается: «– Мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет…» Вот так доброе женское сердечко!
Отношения Достоевского с Сусловой продолжались и позже, вплоть до 1867 г., но уже практически только на эпистолярном уровне, однако ж и это доставляло минуты ревности уже второй жене писателя Анне Григорьевне. В последнем своём письме к Аполлинарии (23 апр. /5 мая/ 1867 г.) Достоевский попрощался с ней так: «До свидания, друг вечный!..»
Предвидение-пророчество Фёдора Михайловича в письме к её сестре о том, что Аполлинария «вечно будет несчастна» – оправдалось полностью и на все сто. В любви она терпела одни катастрофы, с родными и близкими ужиться не могла. Вышла замуж только в 40 лет (в 1880 г., ещё при жизни Достоевского) за писателя и философа В. В. Розанова, которому было 24, и который женился на ней во многом из-за благоговейного отношения к Достоевскому; через 6 лет они расстались, но «Суслиха» (выражение Розанова) целых 20 лет не давала развода мужу, который создал другую семью.
В общественной жизни, как ни пыталась, тоже никак не сумела определиться, найти своё место, хотя играла роль эмансипированной женщины и нигилистки. Она всё время жила как в горячке, отвергая действительное, вечно недовольная, неудовлетворённая, страдающая и мучающая, заставляющая страдать других людей. И в литературном творчестве она искала какой-то выход, способ-возможность утвердиться в этом мире, объяснить-понять его и себя в нём. Из её дневников и беллетристических опытов и можно понять, как часто эта красивая, гордая, незаурядная, но и страшно несчастная женщина находилась на краю самоубийства. И особенно важно подчеркнуть, что Достоевский был в курсе её суицидальных мечтаний-намерений.
Именно в те парижские дни, когда Достоевский узнаёт, что «немножечко опоздал приехать», когда он сам находится на грани отчаяния, а Аполлинария, словно зло пародируя соответствующие сцены из «Униженных и оскорблённых», продолжает встречаться с Сальвадором и посвящает Фёдора Михайловича во все подробности своих взаимоотношений с испанцем, она и решает покончить жизнь самоубийством. В дневнике она подробничает, как сожгла перед этим некоторые свои тетради и компрометирующие письма (вот когда, вероятно, погибло и несколько бесценных писем влюблённого писателя!), как провела ночь в мыслях о самоубийстве, как пришла утром к Фёдору Михайловичу плакаться в жилетку, как он её успокоил и на время примирил с гнусной жизнью и подлостью Сальвадора…
О том, что и запутанные, мучительные отношения с Достоевским тоже чуть не довели эту роковую женщину до суицида, мы можем в какой-то мере судить по сюжету документально-мемуарной повести Сусловой «Чужая и свой»: в конце героиня её, Анна Павловна – alter ego Аполлинарии Прокофьевны, бросается в реку…
Даже удивительно, что эта женщина дожила до преклонного возраста (почти до 80-ти!) и умерла в 1918 году собственной смертью, к слову, в один год с Анной Григорьевной Достоевской и совсем невдалеке от неё, тоже в Крыму. Ещё в 1865 году, в период агонии взаимоотношений с автором «Униженных и оскорблённых», Суслова формулирует в дневнике: «Покинет ли меня когда-нибудь гордость? Нет, не может быть, лучше умереть. Лучше умереть с тоски, но свободной, независимой от внешних вещей <…> я нахожу жизнь так грубой и так печальной, что я с трудом её выношу. Боже мой, неужели всегда будет так! И стоило ли родиться!..»[12]
Анна
Встреча с Анной Григорьевной Сниткиной была в полном смысле слова для Достоевского судьбоносной…
Как известно, он весьма недобро и даже злобно отзывался до конца дней своих о Ф. Т. Стелловском. Писатель считал, что этот издатель-спекулянт ограбил его и судился с ним как с заклятым врагом. И это доказывает, что Достоевский, как и многие гениальные люди, в обыденной жизни, в обстоятельствах и следствиях собственной судьбы не всегда верно расставлял акценты, был наивен, мог весьма бездарно ошибаться в оценке событий. По сути, ему, Фёдору Михайловичу, надо было бы до конца дней господина Стелловского (он умер в 1875-м) числить его в ближайших друзьях-приятелях, благодетельствовать ему и осыпать подарками, после кончины же – вспоминать-поминать только добрым словом. Давайте попробуем посмотреть на их сделку-контракт 1865 года не глазами Достоевского, а – беспристрастно, как бы со стороны. Получится у нас следующее:
а) Стелловский решился издать и издал четырёхтомное собрание сочинений писателя, известность которого в то время была далеко ещё не такой, какой стала она после «Преступления и наказания», чем способствовал, без сомнения, росту его популярности. Достоевскому не случайно не удалось найти иной выход из денежного тупика – кто бы из тогдашних издателей, кроме Стелловского, рискнул заключить контракт с относительно молодым ещё автором и выплатить ему деньги вперёд?..
б) Во многом благодаря этому, казалось бы, кабальному контракту и появилось на свет одно из самых цельных и безусловно талантливых произведений, приоткрывшее читателям и исследователям внутренний мир Достоевского, – роман «Игрок».
в) Именно благодаря деньгам «спекулянта» Стелловского писатель смог вырваться за границу, по сути – на последнее горестно-сладостное свидание с Аполлинарией…
г) И, наконец, – самое главное: только благодаря Стелловскому Фёдор Михайлович встретился с Анной Григорьевной! И это бесспорно и однозначно для любого человека, верующего или не верующего в предопределение человеческой судьбы свыше и влияние случая на жизнь каждого из нас.
Анна Сниткина была послана-подарена Достоевскому судьбою (при посредничестве Стелловского) за все его прежние и ещё грядущие горести, лишения, испытания, болезни и страдания. Благодаря ей, свои последние и самые плодотворные четырнадцать лет жизни Достоевский прожил по-человечески счастливо – любовь, ласка, внимание, забота, терпение и понимание со стороны юной супруги компенсировали вечному страдальцу и больному гению все тяготы бытия. Даже можно сказать, что Анна Григорьевна продлила дни Фёдора Михайловича. Если есть-существует такое понятие – идеальная писательская жена, то первой и, вероятно, единственной кандидаткой на это звание была и остаётся на все времена (по крайней мере, в русской литературе) именно Анна Григорьевна Достоевская. Недаром Л. Н. Толстой сказал однажды не без оттенка зависти: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жёны, как у Достоевского…»[13]
Вернёмся, однако ж, от лирики к исследовательским заботам. Подробности объяснения в любви и предложения руки и сердца 20-летней стенографке Анне Григорьевне Сниткиной со стороны автора «Игрока» хорошо известны из её «Воспоминаний». Воссоздадим здесь вкратце, как это случилось.
30 октября 1866 года, между прочим, – в самый день рождения Достоевского (а исполнилось ему ровно сорок пять), Анна Григорьевна принесла-преподнесла писателю лучший из подарков – последнюю переписанную стенограмму законченного романа. С одной стороны, безмерная радость автора (обязательства перед Стелловским выполнены!), с другой – грусть и тоска на сердце (милая стенографка исчезнет навсегда из его жизни!). Однако ж, они уговариваются работать совместно и дальше – теперь уже над продолжением «Преступления и наказания». И вот наступает в жизни обоих судьбоносный день – 8 ноября 1866 года. Достоевский рассказывает Анне Григорьевне сюжет как бы задуманного им нового романа и якобы никак ему не обойтись без консультации Анны Григорьевны по части девичьей психологии. Впоследствии «консультантка» будет вспоминать:
«Я с гордостью приготовилась “помогать” талантливому писателю.
– Кто же герой вашего романа?
– Художник, человек уже не молодой, ну, одним словом, моих лет…
<…> художник встречает на своем пути молодую девушку ваших лет или на год-два постарше. Назовем её Аней…
<…> Художник <…> чем чаще её видел, тем более она ему нравилась, тем сильнее крепло в нём убеждение, что с нею он мог бы найти счастье. И, однако, мечта эта представлялась ему почти невозможною. <…> Не была ли бы любовь к художнику страшной жертвой со стороны этой юной девушки и не стала ли бы она потом горько раскаиваться, что связала с ним свою судьбу? Да и вообще, возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника? <…>
– Почему же невозможно? Ведь если, как вы говорите, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим, отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? <…> Если она его любит, то и сама будет счастлива, и раскаиваться ей никогда не придётся!
Я говорила горячо. Фёдор Михайлович смотрел на меня с волнением.
– И вы серьёзно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь?
Он помолчал, как бы колеблясь.
– Поставьте себя на минуту на её место, – сказал он дрожащим голосом. – Представьте, что этот художник – я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?
Лицо Фёдора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Фёдора Михайловича и сказала:
– Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь!
Я не стану передавать те нежные, полные любви слова, которые говорил мне в те незабвенные минуты Фёдор Михайлович: они для меня священны…»[14]
А вот как ту же сцену описывает-воссоздаёт писатель в художественном произведении – слегка уменьшив возраст обоих героев: Сергею Михайловичу – 36 лет, Маше – 17. Сцена даётся опять же через восприятие героини, её глазами. Итак:
«– Представьте себе, что был один господин, А положим, – сказал он, – старый и отживший, и одна госпожа Б, молодая, счастливая, не видавшая ещё ни людей, ни жизни. <…> он полюбил её как дочь, и не боялся полюбить иначе.
Он замолчал, но я не прерывала его.
– Но он забыл, что Б так молода, что жизнь для неё ещё игрушка, – продолжал он вдруг скоро и решительно и не глядя на меня, – и что её можно полюбить иначе, и что ей это весело будет…
– Отчего же он боялся полюбить иначе? – чуть слышно сказала я, сдерживая своё волнение…
– Вы молоды, – сказал он, – я не молод. Вам играть хочется, а мне другого нужно <…>. И не будем больше говорить об этом. Пожалуйста!
– Нет! нет! будем говорить! – сказала я, и слёзы задрожали у меня в голосе. – Он любил её или нет?
Он не отвечал.
– А ежели не любил, так зачем он играл с ней, как с ребёнком? – проговорила я.
– Да, да, А виноват был, – отвечал он, торопливо перебивая меня, – но всё было кончено и они расстались… друзьями.
– Но это ужасно! и разве нет другого конца, – едва проговорила я и испугалась того, что сказала.
– Да, есть, – сказал он, открывая взволнованное лицо и глядя прямо на меня. – Есть два различные конца. <…> Одни говорят <…>, что А сошёл с ума, безумно полюбил Б и сказал ей это… А она только смеялась… <…> другие говорят, будто она сжалилась над ним, вообразила себе, бедняжка, не видавшая людей, что она точно может любить его, и согласилась быть его женой. И он, сумасшедший, поверил. Поверил, что вся жизнь его начнётся снова, но она сама увидала, что обманула его, и что он обманул её…»
Эта эмоциональная сцена-диалог заканчивается, в конце концов, тем, что героиня, со своей стороны, признаётся-открывается в своей любви к «А», и её младшая сестрёнка Соня, которая подслушивала у двери, бежит оповестить всех домашних, что «Маша хочет жениться на Сергее Михайловиче…»
Из какого же это произведения?..
Впрочем, пора признаться, да и, думается, вряд ли кого ввела в заблуждение эта невинная мистификация – не тот стиль, не тот слог: да, это сцена-отрывок из ранней повести Л. Н. Толстого «Семейное счастье»[15]. Но какая поразительная перекличка! Это произведение (которым, к слову, автор был крайне неудовлетворён) было опубликовано ещё в апреле 1859 года в «Русском вестнике» – как раз в то время, когда Достоевский, возвращаясь в литературу и вернувшись в Россию, жадно вчитывался в страницы свежих журналов и особенно в произведения Л. Толстого, который чрезвычайно заинтересовал его ещё в Сибири своими первыми повестями о детстве и отрочестве.
Как известно, у Достоевского почти нет ни одного слова без оглядки на чужое слово: полемика, пародия, парафраз, реминисценция, аллюзия, скрытая и прямая цитата – вот кровеносная система его творчества. В данном случае Достоевский как бы использовал, скрыто процитировал-воспроизвёл и даже в чём-то спародировал в личной реальной жизни сцену из литературного произведения другого писателя. Примечательно, что однажды, когда у супругов Достоевских в задушевной беседе всплыли воспоминания о начале их любви-сближения и незабываемой сцене объяснения-предложения в виде иносказательного романного сюжета, Достоевский, напрочь забыв и о Л. Толстом, и о своём вольном или невольном плагиате, похвастался юной супруге: «А впрочем, я вижу, что рассказанный мною тогда роман был лучший изо всех, когда-либо мною написанных…»[16]
Но ещё более примечательно то, что заглавие повести Л. Толстого звучит-воспринимается, по ходу чтения произведения, зеркально и саркастически горько: никакого семейного счастья у Маши с Сергеем Михайловичем не получается – одни страдания, терзания, упрёки, вражда амбиций и непонимание друг друга. Совсем не то в жизненно-реальном романе Достоевских под названием – «Семейное счастье».
Свидетельствует ОН:
«Тебя бесконечно любящий и в тебя бесконечно верующий <…> Ты моё будущее всё – и надежда, и вера, и счастие, и блаженство, – всё…» (9 декабря 1866 г. – Он ещё жених.)
«…думаю о тебе поминутно. Анька, я тоскую о тебе мучительно! Днём перебираю в уме все твои хорошие качества и люблю тебя ужасно <…> Голубчик, я ни одной женщины не знаю равной тебе. <…> вечером и ложась спать (это между нами) думаю о тебе уже с мученьем, обнимаю тебя мысленно и целую в воображении всю (понимаешь?). Да, Аня, к тоске моего уединения недоставало только этого мученья; должен жить без тебя и мучиться. Ты мне снишься обольстительно; видишь ли меня-то во сне? Аня, это очень серьёзно в моём положении, если б это была шутка, я б тебе не писал. Ты [боясь] говорила, что я, пожалуй, пущусь за другими женщинами здесь за границей. Друг мой, я на опыте теперь изведал, что и вообразить не могу другой, кроме тебя. Не надо мне совсем других, мне тебя надо, вот что я говорю себе каждодневно…<…> Я тебя истинно люблю и молюсь за вас всех каждый день горячо…» (16 /28/ июня 1874 г. Эмс. – 8,5 лет семейной жизни.)
«Милый ангел мой, Аня: становлюсь на колени, молюсь тебе и целую твои ноги. Влюблённый в тебя муж твой! Друг ты мой, целые 10 лет я был в тебя влюблён и всё crescendo и хоть и ссорился с тобой иногда, а всё любил до смерти. Теперь всё думаю, как тебя увижу и обниму…» (15—16 июля 1877 г. – Без комментариев.)
«Ангел мой, пишешь мне милую приписочку, что часто снюсь тебе во сне и т. д. А я об тебе мечтаю больше наяву. Сижу пью кофей или чай и только о тебе и думаю, но не в одном этом, а и во всех смыслах. И вот я убедился, Аня, что я не только люблю тебя, но и влюблён в тебя и что ты единая моя госпожа, и это после 12-ти лет! Да и в самом земном смысле говоря, это тоже так, несмотря на то, что ведь, уж конечно, ты изменилась и постарела с тех пор, когда я тебя узнал ещё девятнадцати лет. Но теперь, веришь ли, ты мне нравишься и в этом смысле несравненно более, чем тогда. Это бы невероятно, но это так. Правда, тебе ещё только 32 года, и это самый цвет женщины <5 строк нрзб.> это уже непобедимо привлекает такого, как я. Была бы вполне откровенна – была б совершенство. Целую тебя поминутно в мечтах моих всю, поминутно взасос. Особенно люблю то, про что сказано: “И предметом сим прелестным восхищён и упоён он”. – Этот предмет целую поминутно во всех видах и намерен целовать всю жизнь. Анечка, голубчик, я никогда, ни при каких даже обстоятельствах, в этом смысле не могу отстать от тебя, от моей восхитительной баловницы, ибо тут не одно лишь это баловство, а и та готовность, та прелесть и та интимность откровенности, с которою это баловство от тебя получаю. До свидания, договорился до чёртиков, обнимаю и целую тебя взасос…» (4 /16/ августа 1879 г. Эмс. – Без комментариев.)
«Крепко обнимаю тебя, моя Анька. Крепко целую тебя <…>. Ты пишешь, что видишь сны, а что я тебя не люблю. А я всё вижу прескверные сны, кошмары, каждую ночь о том, что ты мне изменяешь с другими. Ей-богу. Страшно мучаюсь. Целую тебя тысячу раз…» (3—4 июня 1880 г. Москва. – Одно из самых последних посланий Достоевского к жене.)
Письма Достоевского к жене (а их сохранилось более 160!) с пылкими, донельзя чувственными, порой откровенно-интимными признаниями-излияниями можно цитировать страницами. Причём, надо ещё помнить, что часть писем не сохранилась, а в дошедших до нас Анна Григорьевна самолично, готовя их к изданию, густо зачеркнула или стёрла резинкой самые, по её мнению, откровенно-интимные строки-фрагменты. Таких цензурных купюр, к сожалению для нас, в семейном эпистолярии Достоевского немало. В этом сожалении нет ничего предосудительного, ибо сам Достоевский, успокаивая осторожную Анну Григорьевну, собственноручно как бы выписал тогдашним любопытствующим перлюстраторам и будущим дотошным исследователям-биографам индульгенцию от себя (16 /28/ августа 1879 г.): «Пишешь: А ну если кто читает наши письма? Конечно, но ведь и пусть; пусть завидуют…»