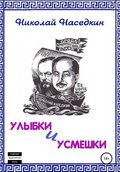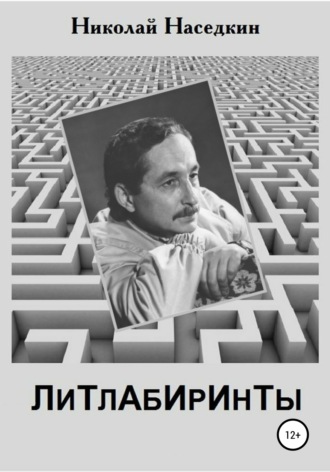
Николай Николаевич Наседкин
Литлабиринты
2. Издательские стены
Эти издательские стены всегда – и в доисторические советские времена, и в новейшие дико капиталистические – нежным писательским лбом прошибать было трудно. Сейчас, когда от ран на лбу остались только памятные шрамы, самое время вспомнить с улыбкой или усмешкой самые любопытные истории рождения своих книг.
К слову, вот эту затёртую метафору про рождение для наглядности хочется развернуть во всей её нескромной и даже игривой красе. Сначала происходит таинство зачатия замысла – автор и сам зачастую не может толком объяснить, где, когда и каким образом он «залетел». (В этом месте какой-нибудь циник может съязвить: получается, Пушкин «оплодотворил» Гоголя сюжетами «Ревизора» и «Мёртвых душ»? Циник он и есть циник. Хотя по сути верно.) Затем литературный плод внутри писателя формируется-растёт и начинает проситься наружу – часто недоношенным и несовершенным. И происходит предварительное рождение – в виде рукописи, машинописи, файла. На этом этапе родитель-творец (а это может быть и женщина) ещё имеет возможность подправить, пригладить, «облизать» своё детище и решить его дальнейшую судьбу: 1) дать ему родиться полностью и окончательно, 2) спрятать до поры и времени в стол, 3) уничтожить-сжечь (хотя рукописи, как уверял классик, не горят, но попытаться можно)…
Если автор выбрал первый (а автор, как правило, выбирает первый) вариант, он плод свой помещает в некую оболочку (папку с тесёмками, флешку) и доставляет в роддом-издательство, где детище его должно родиться уже по-настоящему, в виде книги. Тут-то и вступает в силу закон стены, которую надо пробивать лбом. И вот бывает так, что стену ты каким-то чудом пробил-прошиб, а книга всё равно не вышла. Или вышла, но совсем в другом издательстве-роддоме, к неприступным стенам которого ты и приближаться не думал…
Впрочем, хватит метафор и предисловий, пора к сути. Вот несколько самых любопытных, порой курьёзных и, если можно так выразиться, лабиринтных историй рождения книг из моей писательской практики.
Как уже упоминал в рассказе о журналах, самая первая книжечка рассказов у меня должна была родиться-появиться в серии «Библиотека журнала “Молодая гвардия”» в начале 1987-го, когда мне было 33 года. Ещё прекрасный возраст для дебюта прозаика! И хотя на обороте титула таких книжечек-брошюрок указывалось, что они приравниваются к журнальной публикации, но я (как и другие авторы-счастливчики «Библиотеки “МГ”») сборник этот толщиной почти в сто страниц (десять-двенадцать рассказов), изданный тиражом 75000 экземпляров (нынешним дебютантам и не снилось!), конечно же, считал бы полновесной первой книгой.
Не сложилось…
Следующий шанс проклюнулся уже в следующем году. Я только-только закончил первую свою повесть «Стройбат», как Центрально-Чернозёмное книжное издательство начало на волне перестройки активно шукать в регионе молодых и неизвестных авторов. И вот тамбовский представитель ЦЧКИ, вернее представительница, известная уже в то время в Тамбове поэтесса В. Дорожкина, встретив меня в коридорах Дома печати (я работал в молодёжке), поинтересовалась, не знаю ли я какого-нибудь нового прозаика, не попадалась ли мне на глаза интересная рукопись? Валентина Тихоновна в то время знала меня как журналиста и литературного критика (именно как критика меня и спрашивала), кто ж тогда мог подумать, что мы через четверть века будем бок о бок работать в писательской организации – я председателем правления, она моим заместителем…
Ну так вот, я скромно ответил, что и прозаика знаю, и рукопись видел. Валентина Тихоновна, ознакомившись, повесть мою одобрила, но и предупредила сразу: на отдельное издание надежды мало – перестройка перестройкой, а армейская тема ещё считалась чересчур острой, цензура работала в полную силу. А вот в коллективке – может и проскочить. И проскочила. В сильно усечённом и местами приглаженном виде – в сборнике «Молодая проза Черноземья» (Воронеж, 1989). Редактор сборника, субтильная интеллигентная женщина, считала, что моё повествование чересчур мрачно, чрезмерно жёсткое – мол, надо бы смягчить. И хотя я с этим категорически не согласился, милая женщина своей волей кой-чего подправила. Так что, читая уже в вышедшей книге свой «Стройбат», я, испытывая авторскую щенячью радость, в иных местах всё же невольно морщился как от похмельной боли. К примеру, моя фраза «встряхнувшись в пять сорок пять утра от мерзкого рёва старшины» в сборнике выглядела так: «встряхнувшись в пять сорок пять утра от крика старшины»…
Забегая вперёд скажу, что это был первый и практически последний случай, когда так беспардонно сокращали и редактировали моё литдетище, – все последующие мои книги и публикации в журналах вышли, можно сказать, в авторской редакции. А повесть «Стройбат», волею судьбы перекрещённая в «Казарму» (ибо в том же 1989 году в «Новом мире» проскочил вот уж действительно запредельно мрачный «Стройбат» Сергея Каледина), в полном виде вышла потом в моём сборнике «Криминал-шоу» (1997).
Между тем, ещё в 1986 году уже случилось судьбоносное событие в моей писательской биографии – встреча-знакомство с Петром Алёшкиным. Редакция нашего «Комсомольского знамени» выписывала молодёжные журналы, и вот в одном из номеров «Литературной учёбы» я увидел повесть П. Алёшкина, из аннотации узнал, что он родом с Тамбовщины. В редакции «Литучёбы» дали мне его телефон, я связался с ним. Алёшкин жил в Москве, работал заведующим редакцией издательства «Молодая гвардия», в своё время занимался в литературной студии при нашей газете «Комсомольское знамя», публиковал рассказы в воронежском журнале «Подъём» и уже выпустил три книги. Вскоре одну из них, самую новую и толстую, я прочёл и опубликовал о Петре статеечку в нашей газете. Проза его мне в целом понравилась, о чём я и написал, но заканчивалась заметка весьма критически (а критиком я бывал порой очень суровым):
Заметно определённое однообразие в творческих приёмах автора (к примеру, во многих повестях и рассказах сюжет построен на воспоминаниях о прошлом), встречаются порой попытки искусственного разрешения конфликтов и стремление к пресловутому хэппи-энду…
Но понятно, что статья эта писалась и публиковалась вовсе не с целью раскритиковать молодого прозаика, а для того, чтобы привлечь внимание тамбовских читателей к творчеству писателя-земляка Петра Алёшкина.
А тут и та самая прибалтийская моя осень подоспела, когда поехал я на Всероссийский семинар молодых критиков в Дубулты, чтобы там окончательно переродиться из критика в писателя-прозаика. Вот по дороге в Ригу я и встретился-познакомился с Алёшкиным лично у него дома, в подмосковном Зеленограде. Всё это позже довольно подробно будет описано в романе «Алкаш» (где Пётр носит фамилию Антошкин). Он успел просмотреть мои рассказы (я, по предварительной договорённости, выслал ему за две недели до встречи папочку со вторыми экземплярами) и сказал примерно следующее:
– Способности у тебя есть, это видно, но не хватает пока смелости, уверенности, широты. Короче, рассказы я оставляю, попробую некоторые рассовать по разным коллективным сборникам. А ты должен, просто обязан всерьёз засесть за стол и написать повесть. Это – первое. Второе: я собираю альманах «Живая ветвь» – там будет и проза, и поэзия, и критика. Тема – преемственность поколений в литературе. Хочешь участвовать?
– Ещё бы! – выдохнул я. – Один или два рассказа?
– Нет, – охолонул меня Пётр, – я хочу задействовать тебя как критика. Поэтов и прозаиков я приглашаю уже с именами – так надо, для успеха книги. А критики требуются именно молодые и дерзкие – там будет галерея портретов нынешних писателей. Кто тебе близок из нашего поколения?
Мы остановились на кандидатуре Юрия Козлова, и я, весьма ободрённый, помчался в Юрмалу, дабы там окончательно захмелеть от похвальных речей-отзывов о моей прозе А. Ланщикова, С. Лыкошина и соответствующих перспектив…
Увы, как дубултовские перспективы ушли в песок, так и зеленоградские. Ни единый рассказ мой в сборники издательства «Молодая гвардия» не попал, написанная и одобренная громадная (два авторских листа!) статья о творчестве Юрия Козлова для «Живой ветви» до сих пор лежит в моём архиве неопубликованная. Дело в том, что Пётр Алёшкин внезапно ушёл (скорее, его ушли) из госиздательства на вольные хлеба.
Но и в этот вольнохлебный период его жизни случился эпизод, который до сих пор вспоминаю я с благодарностью. Пётр приехал в Тамбов на неделю, чтобы поработать в архивах (собирал материал для романа об Антоновском восстании), одну ночь ночевал у нас, а затем перебрался в гостиницу из нашей тесной однушки – там было, конечно, вольнее и продуктивнее работать. И забрал с собой для прочтения папку с той самой первой моей повестью «Стройбат». На следующее утро и случилась та сцена, чем-то напомнившая мне сцену в Дубултах. Я открыл дверь свой квартиры на звонок, вошёл Алёшкин с моей красной папкой подмышкой, с какой-то удивлённо-радостной улыбкой протянул мне руку и выдохнул:
– Поздравляю!
Вот ради таких моментов писатель и живёт-творит! Потом уже, за чаем, Пётр рассказал-признался, как с опаской, боясь разочарования, приступил вечером к чтению рукописи, как увлёкся с первых страниц и не ложился почти до утра спать, пока не дочитал всю повесть до конца… Мне в чай и мёд не надо было класть – всё было сладко! (Не будь я скромен до неприличия, вспомнил бы здесь по аналогии эпизод, как к молодому Достоевскому примчались Некрасов с Григоровичем, прочитавшие за ночь рукопись его «Бедных людей», и кинулись обнимать и поздравлять-окрылять смущённого автора…)
На вольных скудных хлебах Алёшкин долго усидеть не мог, его деятельная натура требовала достойного поприща, а тут ещё пресловутая перестройка бурлила и штормила всё сильнее, появились первые кооперативы, и вот на этой волне возник книгоиздательский кооператив «Глагол», который Алёшкин учредил со своими московскими друзьями-писателями и возглавил. Дела пошли споро. Как раз началась амнистия ранее запрещённой литературы – просто пиршество для издателей и читателей. Помню, одной из первых книг «Глагола» стала «Судьба России» русского философа-эмигранта Бердяева.
В те дни Пётр и сделал мне конкретное предложение, от которого трудно было отказаться. «Глагол» задумал издавать серию «Современный детектив».
– Пиши, дерзай, – сказал мне Алёшкин. – У тебя получится. Только вещь должна быть остросюжетной, злободневной, читабельной. Возьми конкретное нашумевшее преступление в Тамбове и построй на этом сюжет…
И я решился. Заручившись бумагой с печатью от правления местной писательской организации («помогите молодому литератору в сборе материала для повести»), я пришёл в канцелярию областного суда. В то смутное время перестройки Тамбовщину (как и всю страну) захлестнул вал чудовищных преступлений. Мне на выбор предложили пять-шесть уже законченных кровавых уголовных дел, я их внимательно просмотрел (чуть не поседев от ужаса) и остановился на одном, о котором года за два до того писало и наше «Комсомольское знамя»: главный инженер тамбовского завода «Ревтруд» в обеденный перерыв повёз на своих «Жигулях» работницу этого же предприятия на «свидание» в пригородный лес, и там их убили три подростка, которым захотелось покататься на машине…
Уже в разгаре работы над произведением я начал понимать, что детектив в чистом классическом виде вряд ли у меня получится, да мне это и не интересно. Главное, подумалось мне, описать не то, как искали убийц, а – КОГО убили, КТО убил, ПОЧЕМУ и КАК судьба свела этих людей в одном месте и в одно время. Заменив инженера завода на редактора молодёжной газеты, я широко использовал в повествовании воспоминания о работе в «Комсомольском знамени», реалии собственной судьбы и окружающей жизни-действительности. В результате получилась повесть (на роман всё же сил, опыта и материала не хватило!) с криминальной жуткой фабулой, лирической любовной линией и социально-сатирическим содержанием. Назвал я её – «Казнить нельзя помиловать». В ней, кстати, и появилось впервые название города Баранов как псевдоним Тамбова, потом в нём поселятся герои многих моих произведений.
В общей сложности работа над повестью длилась не так уж долго… семь месяцев (лето и осень 1989-го), но за это время в издательском лабиринте её судьбы наметился совершенно новый поворот. Я уже с сентября учился на Высших литературных курсах, попал в самый эпицентр кипучей столичной литжизни, присутствовал гостем-зрителем и на том общем собрании писателей Москвы, на котором было принято решение о создании издательства «Столица». А директором нового издательства избрали Петра Алёшкина. Понятно, что из «Глагола» он ушёл, начал с нуля создавать «Столицу», и опять дела новорождённого издательства пошли в гору. Помню, одной из первых книг там выпустили «Библию для детей» с рисунками Доре.
Когда же в начале декабря я закончил таки «Казнить нельзя помиловать» и поехал к Алёшкину с рукописью, душа моя, признаюсь, ныла: ну отдаст он моё детище в «Глагол», а там без него много ли шансов?.. Однако ж Пётр, прочитав и безоговорочно одобрив («Молодец! Отличная повесть!..»), сказал:
– Будем в «Столице» издавать.
– Да разве можно?! – квакнул я, зная, что это же издательство Московской писательской организации.
– Да почему же нельзя? – успокоил Алёшкин. – Мы по уставу имеем право издавать молодых авторов, имеющих московскую прописку. Ты же имеешь?
Да, я как раз имел – меня на два года прописали в общежитии Литинститута. Вскоре рукопись моя была одобрена редсоветом «Столицы» и включена в план отдельным изданием на следующий, 1990-й, год. По договору я даже получил совершенно королевский аванс в тысячу шестьсот рублей, который здорово помог мне выжить эти два года в Москве (моя стипендия на ВЛК с вычетами составляла 86 рублей).
Итак, судьба первой моей книги определилась, оставалось только ждать и надеяться. И хотя сроки выхода её начали отодвигаться (издательство новое, ещё неразбериха с планами), но в начале 1991-го я всё же получил типографскую вёрстку своей книги для авторской окончательной вычитки. Чуть не забыл упомянуть, что неугомонный Алёшкин учредил при издательстве два новых журнала со старыми названиями – «Нива» и «Русский архив». В первый из них взяли для публикации мой рассказ «Осада», а во второй – статью «Подпольный человек Достоевского как человек». Но и этого мало! Ещё одно грандиозное событие подоспело-случилось: Пётр задумал и новую литературную газету при «Столице» издавать, предложив мне стать её главным редактором. Мы даже сходили на приём для согласования этого вопроса к заместителю министра печати…
Но правду говорили древние греки и римляне: мойры-парки – особы, в общем-то, недобрые, любят зло шуткануть над доверчивым человеком.
Вдруг и неожиданно в «Столице» произошло землетрясение, случилась катастрофа, обвалился потолок и рухнули стены. Образно, конечно, говоря. Оказывается в недрах издательства вызрела оппозиция неутомимому и деятельному директору во главе с бездельником главным редактором. Должность эту занимал один из литературных московских снобов нового поколения, чрезмерно обласканный критикой и накопивший вследствие этого чрезмерные амбиции. Понятно, что его раздражала и угнетала чересчур успешная кипучая деятельность директора, который не только решал-проворачивал все хозяйственные, производственные и бытовые проблемы растущего издательства, но и активно вмешивался в творческий процесс. Главреда, вероятно, особенно злило, что он, как и должно, появляется на работе после обеда и часа на два, а директор чуть не круглые сутки увлечённо работает и по праву является лидером коллектива. Да кто он такой?! Выскочка деревенский!
И вот, когда Алёшкин по делам «Столицы» уехал в командировку на неделю, в издательстве вспыхнул бунт. Главный редактор, как стало потом известно, организовал коллективное письмо-донос против директора и объявил о его якобы уже решённом грядущем свержении…
Всё это сам Алёшкин потом обстоятельно опишет в документальной повести «Предательство, или Скандал в “Столице”». Здесь же скажу только, что в этот конфликт, в эту корпоративную «столичную» драку каким-то боком оказался втянут и я. Мне бы в те дни не соваться в издательство, понятно, что Алёшкину было не до меня, но – как не соваться-то? Во-первых, мнилось мне, что я должен морально поддержать Петра – друзья всё-таки. Во-вторых, и с книгой моей непонятно что творилось – да когда ж она выйдет наконец? Ну и, в-третьих, с литературной газетой и моим редакторством надо было определяться окончательно – я уже и план-проспект издания разработал, и штатное расписание редакции определил, и предварительную смету финансовых расходов набросал. И ведь подходила к финалу учёба на ВЛК, пора было выписываться из общежития. Короче, мне необходимо было срочно решить кардинальный и судьбоносный вопрос: остаюсь я в Москве или уезжаю домой в чернозёмные палестины?.. А решить его мог только Алёшкин.
С тем и пришёл я в недобрый час в «Столицу». И – нарвался. Само собой, Алёшкин, ошеломлённый нежданной изменой вчерашних друзей, коллег и соратников, находился во сверхвзвинченном состоянии, в разбросанных чувствах и готов был видеть предательство во всём и вся. И на волне этого один издательский придурок-оппозиционер из каких-то своих подлых расчётов и задумок ляпнул Петру, что вот, мол, даже твой друг Наседкин письмо против тебя подписал. Чушь полная и явная. Письмо, как я потом увидел, по содержанию было простым: по таким-то и таким-то причинам просим снять директора с должности, мы категорически отказываемся с ним работать – его подписали, естественно, только штатные работники «Столицы» и никто другой подписывать просто не мог! Одним словом, любой нормальный человек только бы рассмеялся. Однако ж, Алёшкин, будучи в тот момент явно ненормальным, поверил.
Конечно, я тут же, вскипев, побежал к московскому литгенералу, у которого лежало злополучное письмо (а вдруг тот самый придурок-доносчик подпись мою подделал?!), убедился, что это не так и посоветовал Алёшкину убедиться в этом самому.
Казалось бы, вопрос прояснился, но лишних горячих слов с обеих сторон выскочило уже немало, конфликт оставил саднящие раны в душе, дружба наша с Петром оборвалась…
Я выписался из Москвы, уехал в Тамбов, увозя в сумке на память вёрстку так и не вышедшей книги «Казнить нельзя помиловать». Дома сел за свой родной письменный стол, обхватил голову руками и крепко задумался. Что дальше делать и на что жить было неясно. От предложения стать корреспондентом отдела культуры областной «Тамбовской» тогда ещё «правды» я сразу категорически отказался – возвращаться в журналистику отнюдь не желалось. Мои робкие надежды на место редактора в издательстве «Новая жизнь», которое открыли незадолго до того в Тамбове местные маститые прозаики, потерпели фиаско: братья-писатели уже поделили все издательские портфели между собой и взялись всласть сами себя издавать. Вскоре, к слову, «Новая жизнь» прогорела и сгинула.
А я, между тем, стал по сути безработным. Но мне даже в пособии по безработице отказали на основании каких-то там казуистических законов (это описано в рассказе «Пирожки с мясом»). Перебивался публикациями статей, рецензий и рассказов в местных газетах. Благо их расплодилось в годы перестройки немало. О крупных гонорариях за книги и журнальные публикации оставалось только мечтать. От тех дней сохранился любопытный мой рисунок шариковой ручкой в дневнике: изобразил себя рыбаком, ждущим клёва на берегу Литературного моря или озера, рукописи, заброшенные в омуты издательств, заводи журналов и прибрежные газетные воды, выглядят как удочки. Их, этих удочек, – 18! Но поплавки торчат, как луковицы на грядке, абсолютно неподвижно (автоцитата из рассказа «Лебединый крик»).
Ещё стоит привести не менее любопытную запись от 6 февраля 1992 года из того же дневника:
О славе думать неприлично, нельзя, опасно, но… Если в «Тамбовской жизни» опубликуют «Казнить нельзя помиловать» (даже в кастрированном виде), если «Тамбовские губернские ведомости» дадут «Пирожки с мясом», а «Рассказ-газета» – «Четвёртую охоту», если ещё и «Новый мир» опубликует «Осаду» или «Тварь», а в «Молодой гвардии» выйдет сборник, то я стану известным писателем, популярным и… тысячу раз раскаюсь…
Я даже в те тусклые дни (уж признаваться так до конца) совершил рейд по местным толстосумам и чиновникам в поисках спонсора, дескать, не поможете ли писателю издать книгу? Бр-р-р, до сих пор от стыда и отвращения передёргивает!
Чуть было я не решился изменить опять и круто судьбу свою: придумал, раз другого никакого выхода нет, поступить в аспирантуру Литинститута – ещё на три года обеспечить своё существование. С согласия завкафедрой критики Владимира Гусева, у которого учился в семинаре на ВЛК, подготовил реферат, собрал все необходимые документы и отправился на окончательное собеседование в Москву. Но, то ли ангел мой хранитель не согласен был с моим решением, то ли я сам не шибко-то желал такого поворота в жизни, только на полпути, в Мичуринске, я вдруг вышел из вагона и вернулся домой восвояси…
И вот тут, когда и мысли чёрные в голове побулькивать начали (недаром потом теме самоубийства целую книгу посвятил!), опять же вдруг прилетает из Москвы в конверте послание с неожиданным предложением: не хотите ли стать собкором по Центральному Черноземью новой всероссийской газеты «Глашатай»? Несмотря на голод и нищету, я взялся думать-размышлять. С одной стороны, – газета центральная, оклад, надо понимать, приличный. С другой, – опять же журналистика, да и мотаться по соседним областям в поисках тем-материалов не больно-то хотелось…
Ответил Москве, что подумаю, а пока, для затравки, выслал им статью «Кто убрал Игоря Талькова?», где логично называл-указывал убийцей, вопреки официальной версии, Шляфмана и которую тамбовские газеты печатать чего-то не решались. В «Глашатае» она тут же вышла, и редактор ещё более напористо повторил предложение насчёт собкорства.
Но тут затянувшийся дрейф в тёмных водах моря житейского наконец кончился, спасательный круг был мне брошен. Пригласили меня в приёмную ректора местного тогда ещё пединститута, который готовился уже стать университетом, провели собеседование, и через полчаса я вышел редактором институтского издательства с небольшим, но твёрдым окладом.
А на волне этой везухи подоспел и следующий приятный сюрприз – письмо от Алёшкина. Он создал и уже раскрутил новое коммерческое издательство – «Голос». Газета «Глашатай», оказывается, учреждена при издательстве, это он рекомендовал меня редактору в качестве собкора и советует настоятельно согласиться…
Я написал ответное письмо, кратко описал перипетии своей жизни-судьбы за последний год и, пользуясь случаем, сделал довольно толстый намёк: