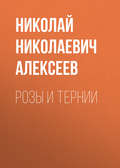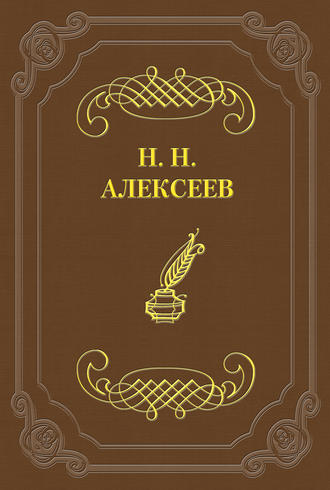
Николай Николаевич Алексеев
Лжецаревич
XIV. Победа или поражение?
Битва уже почти окончилась. Басманов заперся в городке, лишь кое-где виднелись остатки разбитого русского войска, преследуемые немногими всадниками, в числе которых были и Чевашевский с Щерблитовским. Лжецаревич объезжал поле битвы.
«Победа это или поражение?» – мысленно спрашивал он себя.
Не удивительно ли, что самозванец задавал себе подобный вопрос? Казалось, сомнения не могло быть, что это была победа: московское войско бежало, несколько тысяч убитых борисовых ратников устилали поле битвы. А между тем, Димитрий сомневался. Правда, он одержал верх, но результаты этой победы? Результаты были печальны! Поляки ясно высказали, что они более не намерены помогать ему и возвратятся домой.
– Очевидно, – говорили они, – Русь вовсе не так охотно желает признать тебя своим царем. Москали побеждены сегодня, но они могут одержать победу завтра – их ведь несметная сила! Действуй один, мы возвратимся к нашему королю.
Напрасно «царевич» уговаривал их; только четыреста человек решились остаться, остальные твердо заявили, что они уйдут. Даже сам Юрий Мнишек сказал, что он уедет в Литву за свежими полками. Самозванец понимал, что это – простой предлог, что хитрый старик потерял надежду на скорое получение «Смоленского княжества».
Лицо Лжецаревича было сумрачно. Положение его было не из приятных: он терял лучшую часть войска, находясь в центре враждебной страны, перед упорно защищаемой крепостью. Русские разбиты… Что из того? Но они бились, довольно и этого. Это-то обстоятельство и послужило причиною охлаждения к нему польских соратников. Москва и царский стол могут достаться ему лишь в том случае, если русские по доброй воле признают его царем, как это сделали уже многие города, силою же здесь ничего нельзя поделать, имей он втрое большее войско.
«А счастье? – подумал Лжецаревич, поднимая голову. – Неужели и счастье мне изменит, как ляхи? Нет, я добьюсь чего хочу! Что ж делать, брошу осаду Новгорода, наберу ратников в верных мне городах. О! Мне еще не изменило счастье! Звезда моя не угасла! Да и все равно раздумывать уже поздно – дело начато, нужно докончить!»
Лжецаревич повеселел. Его подвижная натура легко поддавалась всем душевным движениям. Теперь он уже весело напевал какую-то польскую песенку.
Какой-то всадник ехал впереди него. Сначала Лжецаревич не обратил на него внимания, теперь же вглядывался. Всадник повернул голову, и самозванец чуть не вскрикнул от изумления: он узнал во всаднике своего «дорожного товарища», боярина Белого-Туренина.
Димитрий поспешно подъехал к нему.
XV. Беседа на поле битвы
Самозванец не ошибся: ехавший был действительно Павел Степанович. Белый-Туренин всего за несколько дней перед этим прибыл в стан Димитрия. Ему уже несколько раз случилось увидеть «царевича», и он немало удивился, узнав в нем Григория. Сперва он сомневался, думал, не простое ли это сходство, но после убедился, что ошибки тут нет.
– Здравствуй, боярин! – сказал Лжецаревич, поравнявшись с ним.
Павел Степанович обернулся.
– Здравствуй, Григо… Здравствуй, царе… Здравствуй, путевой товарищ, – ответил он.
– Что ж, не хочешь меня царевичем назвать?
Боярин некоторое время молча смотрел на него.
– Скажи, – наконец медленно проговорил он, – ты правда царевич?
Самозванец не ожидал этого вопроса. Он ответил не сразу.
– Никому бы на это не ответил, тебе отвечу. Прямо спросил, прямой и ответ дам: нет, я – не царевич.
– Но кто же ты?
– Кто я? – промолвил Димитрий, и его лицо стало задумчивым. – Я сам этого хорошо не знаю. Я смутно помню, что малым ребенком я рос в богатстве и холе. Мне, как сквозь сон, припоминаются светлые расписные палаты, люди в богатых кафтанах…
Когда я сознал себя, я был слугою у бояр Романовых, потом у князей Черкасских, после стал иноком. Моим отцом называют Юрия-Богдана Отрепьева; сказывают, он был зарезан в Москве пьяным литвином. Точно ли это был мой отец? Может быть… Я рос сиротой и знаю лишь то, что мне говорили. Но скажи, если я – сын Юрия Отрепьева, откуда взялся у меня этот дух неспокойный, эта злоба на низкую долю? Отчего меня от младенческих дней тянуло к чему-то иному, чем та жизнь, которою я жил? Отчего, когда я закрывал глаза, мне мерещился царский дворец и себя самого я видел в царском венце, с державой и жезлом государским сидящим на престоле? Слушай! Быть может, это верно, что рожден я простым сыном боярским, но дух-то, дух в груди моей – царевича!
Говоря это, Лжецаревич волновался; на бледном лице его выступили красные пятна.
– Если тебе тяжела была твоя низкая доля, не мог разве ты иначе выбиться из нее, чем идти Русь полячить да латинить? – тихо промолвил Павел Степанович.
– Русь полячить и латинить?! Да с чего ты это взял? – вскричал самозванец. – Послушай, ты думаешь, я сам из своей головы измыслил самозванство? Нет! Правда, иногда думалось мне, что, назвавшись именем царевича Димитрия, можно много дел натворить, но брать на себя это имя я не мыслил. Я убежал в Литву так просто, не тая в душе злого умысла. Мне надоело иночество, хотелось увидеть свет, погулять на воле, я и убежал. До того времени, как встретиться с тобой, я исколесил Литву вдоль и поперек. Многое повидал, многое и услышал. Понял я, что все в Польше и Литве – от захудалого шляхтича и до самого наияснейшего круля – спят и видят, как бы досадить Москве; понял также, что иезуиты скалят зубы на «московских схизматиков». Тогда-то впервые я подумал, нельзя ль отсюда добыть себе пользу. А тут вдруг слух прошел, что царевич Димитрий жив. Где он – никто не знал, но все говорили. Откуда взялась молва? Ты, может, подумаешь, что ее латинские попы да польские паны пустили? Нет, им до этого было не додуматься, они плохо даже и знали, а если знали, то успели забыть, что был когда-то сын Грозного Димитрий. Молва пришла отсюда, из Руси, ее пустили бояре, чтоб донять Бориса. Когда царевич помер, немало нашлось таких людишек, которые не поверили его смерти. «Отрок жив, а в Угличе убит другой: попустит разве Бог, чтоб царский корень извелся?» – тишком говаривали они. Один шепнул, да другой, смотришь молва разрослась, а там бояре ее еще больше раздули, паны и иезуиты за нее ухватились, как за клад, и… и вот народился я! Да, только тогда, когда молва уже шла, я надумал самозванство. Я стал готовиться, не торопясь; подыскал пособников, один из них, монах Леонид, после взял на себя мое имя Григория Отрепьева – теперь он в Чернигове, я вызнавал у панов, сходился с иезуитами. И только как все подготовил и увидел, что встречу поддержку от короля и папы, я назвался царевичем. И знаешь что? Лучше для Руси, что я назвался. Не назовись я – нашелся бы другой, который и впрямь бы ополячил и олатинил Русь. Вот ты думаешь и про меня тоже… Нет! Я русский и не полячить Русь хочу! Я ей свет хочу дать! Ах, если бы ты знал, сколько дум у меня в голове! Что я дружу с поляками, так ведь они как-никак мне помогают. Я дружу пока, потом заговорю иначе. Нет, не полячить я хочу Русь – я хочу, чтоб она вровень стала с Польшей. Рано ли, поздно ли либо Польша с Литвой съедят Москву, либо она их. Вот, я и хочу, чтобы она их съела. Это случится тогда, когда Русь встряхнется, сбросит лень многовековую, начнет учиться. Я заведу школы, университеты, академии…
– Что за мудреные слова говоришь ты! – воскликнул Белый-Туренин.
– Вот ты даже еще и не понимаешь, что это значит! – со вздохом заметил ему Лжецаревич. – А надо, чтоб люди не только понимали эти названия, но чтоб проходили через эти университеты и академии. Много лет пройдет, пока это будет, но оно будет, надо положить начало. И я положу начало! Я сломлю все суеверия и предрассудки, из царства «москалей-медведей» я создам великую империю!
– Опять мудреное слово!
– Да, да! Я привык уже давно употреблять эти «мудреные» слова, которые знает вся Европа и только наша Русь не ведает. Да что она ведает? Сердце болит мое, как подумаю! А ведь она могуча – ух, как могуча! Дух замирает! Ее немочь – тьма. Прорежет свет тьму, и тогда не только Литва С Польшей, а, может быть, весь мир покорится ей! Великая Сила таится в русском народе! Он неповоротлив, ленив, терпелив, но если откинет лень, истощит терпение – тогда держись! Он не умеет пилить, зато он хорошо рубит, рубит с плеча. Ляху никогда не владеть им. В ляхе нет и половины этой мощи. Лях храбр и задорен, он быстро загорается, скоро и остывает; он хвастлив и спесив, лжив и льстив… Нет, нет! Ляхам не владеть Русью! Они могут ее разорить, испепелить, и все-таки Русь встанет из пепла и поглотит их.
– Ну-ка, дорогу! – раздался над ухом Лжецаревича звенящий молодой голос: какой-то всадник врезался с конем между Белым-Турениным и Димитрием.
Самозванец с удивлением посмотрел на всадника: на него дерзко, вызывающе глядели красивые глаза Станислава Щерблитовского.
– Ты с ума сошел? – раздраженно спросил Лжецаревич.
– Тише, тише, москаль! А то…
И пан Станислав наполовину извлек саблю.
– А! Ладно! – только заметил ему Димитрий и обнажил свою.
Павел Степанович отъехал немного в сторону, давая им место.
Поединок начался и длился недолго: скоро раненный в грудь Станислав Щерблитовский упал с коня.
– Не удалось! – пробормотал он, падая.
– Жаль молодчика! Мальчик еще совсем… И какой красавец и богатырь… – сказал боярин, смотря на лежавшего у ног коня самозванца «дикарька».
– Что делать! Сам налез. Вот тебе нрав польский, чего лучше? Еще не оперился ястребенок, а хочет орла заклевать! Поедем.
Они тихо поехали дальше.
– А ты как в войске моем очутился? – спросил Лжецаревич.
Боярин насупился.
– Захотелось помереть на родной земле.
– Ну?! Тебе еще раненько о смерти думать.
– Нет, пора. Пожил, погрешил… Довольно. Да и зачем жить?
– Зачем?! В мире да дела не найти! Хочешь, помогай мне, когда я стану царем.
– Ты твердо веришь, что станешь царем? А Борис?
– Что Борис! Я верю в свое счастье, – с досадой вскричал Лжецаревич. – Хочешь, спрашиваю, помогать мне?
– Рад, а только…
– Ну?
– Только думается мне, что ничего ты не свершишь того, о чем говорил: больно нрав у тебя кипучий. И разума хватит у тебя, да с собою-то ты не совладаешь.
Лицо самозванца омрачилось.
– Спасибо, что правду режешь. Вот тебе наказ мой: всегда говори мне правду в глаза, когда я стану царем, так же, как теперь говоришь. Ладно?
– Ладно. Серчать на меня, сдается мне, тебе часто придется, – с усмешкой сказал Павел Степанович.
– Не буду серчать. Ну, а остальное – поживем – увидим, чья правда.
Они замолчали и повернули к стану.
XVI. Месть «Льва»
Пан Станислав Щерблитовский лежал с глубоко просеченною грудью. Особенной боли он не испытывал, только в груди что-то жгло, но не сильно. Он чувствовал холод снега, на котором лежал, ему хотелось подняться с этого студеного ложа, но он не мог двинуться, не мог шевельнуть ни одним пальцем. Ему, еще за несколько минут перед этим полному силы, было как-то дико ощущать это полнейшее бессилие. Мысль о смерти мелькнула в его голове. Он, Станислав Щерблитовский, умирает… Это опять было что-то дикое, мало понятное! «Умер, умру, умрет» – все это было понятно, но «я умираю» – с этим Станислав не мог освоиться, не мог это слово приложить к себе.
– Нет, я не умру, – решил он, и мысли пошли иные.
Над ним раскинулся светло-синий свод неба, и «дикарек» смотрел в его голубую глубину. Порою проносились легкие дымчатые облака. Молодой пан провожал их глазами, пока они не уплывали из круга его зрения, и снова уставлялся в голубую глубь.
«Видит ли эти облака Марина?» – вдруг мелькнул у него вопрос, и образ красавицы пронесся перед ним. – «Думает ли она обо мне? Будущая русская царица… Ах, зачем мне не удалось убить „его“! Для этого в поход отправился…»
Но новые образы понеслись перед его глазами.
«Вон – отец… Бедный, добрый отец! Как печально-задумчиво его исхудалое лицо. В руке отца фолиант, но глаза старца обращены не на него, а куда-то вдаль… Печален взгляд… кажется, слеза блестит…»
«Вон – мать. Добродушная, хлопотливая, теперь она сидит, подперев рукою седую голову. О чем она задумалась?»
«А вон Маргаритка… Милая, хорошая Маргаритка! Как она плакала тогда, девочка! Она и теперь плачет – вон слезы так и падают на работу, над которой она склонилась».
– Бедные! Милые!..
«Почему бедные? – ловит себя Станислав. – Я к ним вернусь, вернусь».
Чу! Топот коня. Ближе, ближе… Вырисовывается крупная фигура всадника.
– Помоги! – слабо кричит Щерблитовский.
Всадник спрянул с коня. Голова в шеломе заслонила от «дикарька» небо.
«Кто это? – спрашивает себя молодой пан, вглядываясь в красное усатое лицо наклонившегося к нему человека. – А, Чевашевский! Как я не узнал сразу этого трусишку?»
– Помоги! – шепчет Станислав.
– Ба-ба-ба! Да это ты, мальчишка! Вот приятная встреча! Ха-ха-ха! – с громким хохотом проговорил «лев».
Этот смех режет слух раненому.
– Не смейся, а помоги, – прошептал раздраженно «дикарек».
– Помочь? А помнишь мазурку? А? А помнишь насмешки? А помнишь сегодняшнюю пощечину? Забыл? Я помню, дерзкий мальчишка! Пришла пора отместки. Я тебе помогу… отправиться на тот свет! – злобно сказал Чевашевский и, извлекши саблю, полоснул Станислава по горлу.
– Теперь больше не будешь насмехаться! – пробормотал толстый пан, вскарабкиваясь на лошадь.
Голубоватый небесный свод, показалось Станиславу, вдруг всколыхнулся, отодвинулся. Темная бездна заняла его место; ночь окутывала молодого пана.
«Что это? Смерть?» – мелькнул вопрос в голове Щерблитовского.
Тело «дикарька» вздрогнуло и вытянулось.
XVII. Горе Марьи Пахомовны
1 января 1605 года, утром, когда еще едва-едва проблескивал белесоватый свет, в доме князя Алексея Фомича Щербинина все были на ногах: князь-боярин уезжал в «поле», сопровождая князя Василия Ивановича Шуйского, которого Борис Федорович, узнав о злополучной битве близ Новгорода-Северского, отправлял к войску вторым воеводой в помощь болеющему от ран Мстиславскому.
Боярыня Елена Лукьянишна, с покрасневшими от слез глазами, то подбегала к холопам, спрашивая, не забыли ли уложить то-то и то-то, то бросалась обнимать мужа и горько плакала.
Алексей Фомич утешал ее, но сам еле крепился: слезы так вот и навертывались на очи. Это была первая разлука со времени их свадьбы.
Уже стало значительно светлее, когда холопы доложили, что все готово к пути: возы с дорожными припасами и пожитками увязаны, холопы, которые должны были сопровождать боярина в поле, давно снарядились, распрощались со своими женками и ждут.
Елена Лукьянишна громко зарыдала, Алексей Фомич не выдержал и тоже смахнул непрошенные слезы.
Перед отъездом все, не исключая холопов, присели.
В это время в сенях раздался быстрый топот, и в комнату вбежала Марья Пахомовна Двудесятина. Боярыня, по-видимому, была вне себя. Полное лицо ее было красно, темная домашняя кика, поверх которой кое-как был повязан платок, сползла на лоб, шуба только накинута на плечи. Она едва переводила дух и некоторое время стояла молча посреди комнаты, с открытым ртом.
– Марья Пахомовна?! Какими судьбами? – воскликнули изумленные князь и его жена.
Двудесятина вдруг заголосила.
– Убег он, убег! Один убег и другой убег!.. Оставили меня одинокою!.. О-ох, горюшко!
– Кто убег? – с недоумением спросил Алексей Фомич.
– Он, он, сын!
– Константин? Так, ведь…
– Тот давно! Теперь другой убег!
– Вот диво! С чего же это он?
– Сегодня ночью тайком убег. Ранным-рано будят меня холопки: «Боярыня! У нас неладно!» – «Что?» – спрашиваю. – «А Лександра Лазарыч убежали». Я даже рот разинула и ушам не верю. Побежала в его горницу – точно: нет его, и постель не смята. А на столе запись, вот эта самая, – боярыня держала в руке лоскут бумаги. – А в ней… О-ох! А в ней – грамотеи разобрали – прописано: «Матушка родная! Не ищи ты меня дарма – все равно не найдешь. Укроюсь я в монастырь; когда ангельский чин приму, тогда объявлюсь. Так и батюшке скажи». Вот оно, горе-то мое! Бывает ли у кого горшее? О-ох! Как и силушки вынести хватает? Прибегла я к тебе, Лексей Фомич… Прослышала я, что ты в войско отъезжаешь… Увидишься ты там с муженьком моим, сделай милость божескую, перескажи ему все и вот запись эту передай. Да скажи, что слезно молю его вернуться с поля – пропаду, изведусь с тоски я тут одна-одинешенька.
– Ладно, отчего не сказать. Дай запись.
– Княже! Люди сказывают, другие бояре – сопутчики твои – уже выехали… Не пора ли? – промолвил один из холопов.
– Да, пора! – тяжело вздохнув, сказал Алексей Фомич и поднялся.
XVIII. Бой при Добрыничах
Шуйский нашел остатки разбитой московской рати в лесах близ Стародуба. Войско сидело там, окруженное засеками, и не двигалось с места; что было причиной такого бездействия: боязнь ли «царевича» или неспособность больного Мстиславского – трудно сказать.
Василий Иванович решил не мешкать и, соединясь с другим войском, собравшимся у Кром, двинулся к Севску, куда удалился самозванец, снявши осаду Новгорода-Северского.
Московских ратников было около восьмидесяти тысяч. Лжецаревич имел всего пятнадцать тысяч.
– Знаешь что, боярин? – сказал Димитрий, сведав о движении московского войска, Белому-Туренину. – А ведь я пойду навстречу московской рати!
– Твое дело, царевич. Но, если хочешь знать правду – не дело ты затеваешь.
– Это почему? – нетерпеливо спросил самозванец.
– Потому что в открытом поле твоя малая рать не устоит супротив сильной рати московской.
– Вот пустяки! Побил же я ее под Новгородом!
– Случай такой выдался, опешило больно уж Борисово войско. Что раз удалось, другой, может, и не удастся.
– И теперь опешит! Наверно! Да все равно, будь что будет – я иду. Моченьки нет сидеть сложа руки да ждать у моря погоды. Я не могу, не могу!
Он говорил это совершенно искренно – его кипучая натура требовала беспрерывной деятельности.
Лжецаревич двинулся навстречу «московцам». Войска встретились у деревни Добрыничи. 20 января 1605 года Димитрий попытался напасть ночью врасплох на занятую московскою ратью деревню, но попытка не удалась.
На следующий день произошла битва.
Дело началось жаркой перестрелкой. Самозванец на караковом горячем коне ездил под пулями, рассматривая расположение враждебного войска. Он видел густые, темные ряды московской пехоты, занявшей деревню. Это был центр войска. Правое и левое крылья, где стояла конница и немецкие воины, далеко выдвигались из деревни, примыкая в то же время к пехоте и составляя с нею одну непрерывную линию.
Построение московской рати заставило Лжецаревича призадуматься. Борисово войско не двигалось; что оно изменит свое построение, нечего было надеяться. Как разбить его? Ударить на центр? Кроме опасности быть окруженным со всем своим малочисленным войском, эта пехота, такая тяжелая, неподвижная, была страшна. Царевич много раз слышал от самих поляков, что при массовых действиях московская пешая рать почти непобедима. Необходимо было раздробить массу, отрезать фланги от центра. Вон как далеко выдвинулось правое крыло… Если его отрезать от деревни – линия войска была бы прервана. Не давая «московцам» опомниться, можно было бы тогда без особенного риска напасть на растерявшуюся пехоту… План хорош, хоть и смел, или, вернее, хорош потому, что смел.
В самозванце храбрый воин преобладал над благоразумным полководцем.
Димитрий вернулся к своим и построил войско для атаки. Четыреста оставшихся при нем поляков и две тысячи русских сподвижников предназначались для первого удара. Далее должны были скакать восемь тысяч казаков, после них, наконец, должны были двинуться четыре тысячи пехотинцев и «снаряд».
Настала минута атаки. Все понимали, что от нее зависит исход боя, что эта атака – безумно смелая попытка, и все поэтому были торжественно настроены. Не было ни разговоров, ни смеха; ряды всадников в белых плащах, которые русские товарищи самозванца накинули поверх кольчуг, чтобы отличить своих во время битвы, казались, сливаясь вдали, каменным, мраморным морем – так неподвижны были они; впереди пестрели такие же неподвижные ряды поляков.
Резкий звук трубы прозвучал и замер, и вслед затем зарокотали десятки труб, загремели литавры.
Мраморное море всколыхнулось. Еще миг – и вся масса воинов с Лжецаревичем во главе, неистово крича, звеня доспехами, потрясая оружием, понеслась на «московцев».
Мстиславский, увидя несущихся врагов, угадал намеренье самозванца и, прикрыв центр, выдвинул то крыло, которое Димитрий хотел отрезать.
Налетели всадники и врезались в ряды конных «московцев», как железный клин в мягкое дерево. Смели их, разметали… Но вот перед ними стальная стена панцирей. Лес копий разом опустился, словно подрубленный каким чародеем, и стальное жало глубоко вонзилось в грудь коней: так встретили воинов самозванца немцы. Слышно, как трещат, ломаясь, древки копий. Залязгали сабли по шеломам и латам: стальная стена столкнулась с теперь уже бурным, неудержимо стремительным мраморным морем. И море заставило стену податься.
– За мной! Вперед! – кричит Лжецаревич и с бешеной отвагой рвется в самую гущу врагов.
Шаг за шагом, в стройном порядке, но все же отступают немцы. Еще напор, еще одно усилие – и ряды их прорваны. Дальше – свободное пространство, а за ним – московская пехота.
Самозванец торжествовал.
Казаки с гаком сорвались с позиции и летят добивать разбитое войско. А Димитрий со своей конницей мчится дальше, к деревне, на московских пехотинцев; мчится уже довершать победу.
Пехота стоит не шелохнется. Кажется, она не замечает несущуюся на нее грозную шумную рать. Уже воины Лжецаревича заранее предвкушают кровожадное наслаждение врезаться в эту массу тел, давить конем, рубить направо-налево. А «московцы» по-прежнему неподвижны.
Коротко ударили в набат[15].
Ряды пехоты слегка раздались, выставились темные жерла пушек. И опять все замерло.
Земля стонет от топота конницы.
– Победа! Победа несомненно! – шепчет Лжецаревич и помахивает саблей над головой, готовясь рубить угрюмые бородатые лица «московцев», которые он уже ясно различает.
Опять коротко звякнул набат.
Выдвинулись сошки-секирки, стволы пищалей легли на них. Курятся фитили. День тих, и тонкие струйки дыма столбиками тянутся вверх.
Снова набат; но теперь иной, протяжный, режущий ухо, неумолчный. Густой звук рога и тонкие переливы трубы присоединяются к нему.
Струйки дыма фитилей вдруг завились кольцами, огоньки опустились…
Казалось, зигзаг молнии пробежал по рядам пехоты. Взвились дымные облачка.
Земля дрогнула от страшного залпа. Сорок пушек и десять тысяч пищалей метнули в конницу свинцом и железом.
Произошло нечто невообразимое.
Передние ряды коней как-то странно ткнулись головами в землю, задние налетели на них. Все смешалось в стенящую кровавую груду человеческих и конских тел. И эта груда все росла, росла по мере того, как залпы продолжались. Вот пехота быстро двинулась вперед; прискакала московская конница с левого крыла, надвинулись разбитые было немцы – с правого. И вся эта масса колола, рубила оробевших или потерявшихся сподвижников Димитрия.
Забыты были гордые думы о победе: спасался, кто мог. Сам Лжецаревич скакал прочь, нахлестывая своего раненого аргамака, скакал потому, что не скакать – значило обрекать себя на верную гибель. Казаки, думавшие довершать победу, встретили толпы бегущих, были смяты, увлечены этим потоком кидающих оружие, вопящих от ужаса беглецов, и побежали вместе со всеми. Пешее войско Лжецаревича, еще не выступавшее на битву, оробело уже от одного вида бегущих. Оно разбилось сперва на мелкие отрядики, потом на отдельных ратников и в ужасе металось на пространстве восьми верст.
Немцы и «московцы» преследовали по пятам бегущих, били их.
Говорят, что в этом бою легло более шести тысяч сподвижников самозванца, было захвачено множество пленников, более десятка пушек, полтора десятка знамен. Более полную победу трудно было одержать. Разнесся слух, что сам Лжецаревич убит.
– Так, так! Лупи их, лупи! А, такие-сякие! Вспомните вы теперь Новогородскую битву! Вот я вас! – кричал в воинственном азарте Лазарь Павлович Двудесятин, преследуя бегущих.
Немного позади его скакал князь Щербинин.
– Ты что же, Алексей Фомич, отстаешь? А?
– Да что, Лазарь Павлович, как-то и жаль бегунов – все-таки свой брат, русский.
– Э, полно! Какая там жалость! Они нас не жалели, небось. Не-ет, надо их донять как следует. Ссади-ка вон того бегуна, который впереди улепетывает, а я погонюсь за теми двумя, что, эвось, в сторонке видны – что-то они больно тихо скачут.
И, не дожидаясь ответа Щербинина, воинственный старик пустился догонять тех всадников, о которых говорил.
Конь Двудесятина был добрый, и расстояние быстро сокращалось. Лазарь Павлович вглядывался и соображал:
«Русские – вишь, белые платки болтаются. Передний-то матерый, а второй малость поменьше да похудей… За которого прежде приняться? За матерого, сдается мне… А, верней, с обоими разом биться придется…»
– Э, гой! Стой! Я вас! – крикнул он, подлетая к всадникам.
Всадники обернулись.
Лазарь Павлович едва не выронил саблю от изумления.
– Фомка?!.– воскликнул он, взглянув на заднего. – Костька?! – крикнул старик, переведя глаза на переднего.
Фомка, красный, как вареный рак, растерянно улыбался, Константин смущенно смотрел на отца.
– Так вот вы где, такие-сякие! А я вас в Москве искал. Ты с чего же это утек? Боярышню скрасть хотел, да не удалось, так стыдно стало, а? Бить тебя мало!
– Прости, батюшка… А только не от стыда ушел я… – проговорил несколько оправившийся от своего смущения Константин.
– С чего же?
– С горя.
– С горя?! Вона!
– Верно говорю. Люба мне Пелагея Парамоновна, а ты ее за брата просватал.
– Вот что… Гм… Стало быть, ошибся я, не за того сватал. А ты что же, дурень, не сказал мне?
– Мог ли я!
– Лучше скрасть было?
– Пожалуй, лучше.
– Может, и твоя правда… Ну, а братик твой тю-тю!..
– Как так?
– Убег в иноки постригаться – мать весточку прислала с князем Алексеем Фомичем.
– Вот как! Значит, теперь ему уже не жениться на Пелагеюшке? – воскликнул молодой человек радостно.
– Эк, обрадовался! Захочу ли я сватать девицу за такого озорника, – добродушно ухмыляясь, заметил отец.
– Прости, батюшка!
– То-то, прости! Да уж что с тобой делать! Надо простить, – ответил старик и расцеловался с сыном.
– Положи и для меня гнев свой на милость, боярин, – промолвил все время молчавший Фомка.
– Простил его, так тебя и подавно, – сказал Двудесятин и на радости расцеловался и с холопом. – А вы, что ж это, тоже на утек было? – спросил потом он и нахмурился.
– Гм… Да… – смотря под ноги коня, ответил Константин.
– Вот за это тебя, вражий сын, проучить следовало бы! – внезапно раздражаясь, воскликнул старик. – Скверно то, что изменил царю нашему, а все ж, коли взялся за гуж, не скажи, что не дюж, бежать не годится… Нешто Двудесятины когда-нибудь от ворогов бегивали? А? Бегивали?
– Все бежали…
– Мало что все! Все бы с ума спятили, и ты тоже?
– Один в поле не воин…
– Мели, Емеля! Хотелось бы мне тебя теперь за волосья оттаскать, ну да уж простил, так делать нечего. Что ж теперь вы делать будете? Опять к расстриге?
– Нет, зачем же теперь?! – воскликнули в один голос Фомка и Константин и сорвали белые плащи.
– Теперь мы послужим царю нашему Борису Федоровичу, – сказал молодой боярин.
– Давно бы так. Пока что задайте жара тому жирному пану, который тамотка трясется на хромоногом конишке, а я себе тоже кого-нибудь поищу. Ну а вернемся в стан, потолкуем с Парамоном Парамоновичем – может, он и не прочь будет сосватать за тебя свою Пелагею, – проговорил старик, лукаво ухмыляясь.
Константин просиял.
– Ну, с Богом! – добавил Лазарь Павлович. И они разъехались.
Молодой боярин и холоп его быстро нагнали поляка, раненая лошадь которого едва плелась, хотя он не только подстегивал ее, но колол ей концом сабли шею.
Фомка первый подскакал к нему.
– Сдавайся, что ли, пан! – крикнул он ляху.
Пан, жирный, как боров, посмотрел на холопа совершенно безумными от страха, вытаращенными глазами и не отвечал. Нижняя челюсть его так и прыгала.
– Сдавайся, что ль? – повторил Фомка и занес саблю. Пан весь съежился, неистово вскрикнул и вдруг ткнулся лицом в гриву коня.
– Что, прикончил его? – спросил, Константин Лазаревич.
– Пальцем не тронул. Это он, должно, с испуга, – ответил Фомка и тронул пана за плечо. – Слезай, что ли?
Лях качнулся от толчка, но не поднял головы.
– Ей-ей, зарублю! – раздраженно крикнул холоп. Пан не шевельнулся.
– Чудной лях! – заметил боярин.
– Точно что. Ну вот сейчас ответит, – промолвил Фомка и, ухмыляясь, полоснул слегка саблей по руке поляка.
Поляк остался неподвижен, и кровь из раны не выступила.
– Да ведь он никак померши! – воскликнул, увидя это, боярин.
Фомка молчал повернул к себе лицом голову пана: на него взглянули выпученные стеклянные глаза мертвеца.
– Так и есть! Это он со страха, должно быть… Этакий-то боров! Дрянь человек!
И холоп грубо ткнул труп в бок.
Этот пан, умерший от страха, был «лев» Чевашевский.
Парамон Парамонович несказанно удивился, когда старый Двудесятин подвел к нему во время отдыха в стане после битвы Константина.
– Узнаешь?
– Как не узнать! Так вот он где объявился. И не грех тебе было хотеть дочку у меня скрасть? – покачивая головой, промолвил Чванный.
– Пойдем-ка, Парамон Парамоныч, малость пошептаться, – сказал Лазарь Павлович, отводя Парамона Парамоновича в сторону.
Они говорили не долго. Говорил, впрочем, больше один Двудесятин, а Чванный кивал головой и повторял:
– Ну, что ж! Ладно. Все равно… Я рад, рад.
После этого разговора Лазарь Павлович с некоторою торжественностью сказал сыну:
– Ну, сынок, сосватал я тебе невесту… Вот тесть твой будущий…
Константин хотел броситься к отцу на шею.
– Постой! – остановил его тот. – Дай досказать… Сегодня с вестью о победе да погибели расстриги гонец поедет к царю, так и ты с ним в Москву отправляйся: мать жалится, что скучно ей одной, так вот я тебя к ней и пошлю… Ну, и Манефе Захаровне поклон передай да о сватовстве скажи, а потом… Фу ты! Постой! Дай досказать! Да, ну же, ну!
Но молодой боярин уже не слушал отцовских увещаний: он сжимал его в своих объятиях; затем обнял и своего будущего тестя так, что тот только крякнул и пробормотал:
– А ты, видать, парень, силен!