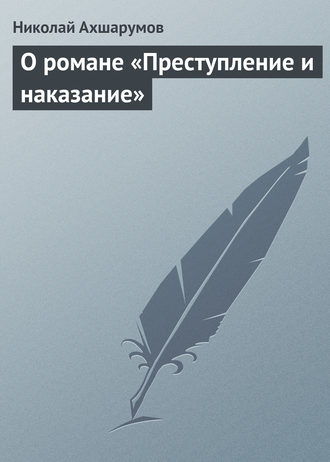
Николай Ахшарумов
О романе «Преступление и наказание»
Вот связный отчет о том, каким путем Раскольников пришел к делу. К сожалению, составляя его, мы не могли воспользоваться всею массою материала, уместившегося в шести частях. Имея в виду прежде всего связь и последовательность, мы должны были выбрать то, что, по нашему убеждению, ближе подходит к истине и по возможности меньше противоречит целому. Исполнив это без оговорки и без упреков, мы повторим еще раз, что взгляд автора на психологическую задачу, ему предстоявшую, в коренных основаниях своих верен, и затем сочтем себя уже в полном праве также без оговорок высказать некоторые сомнения, оставшиеся у нас после внимательной и подробной оценки всех данных.
Теоретических противоречий мы не берем в расчет. Мало ли что совмещается в голове, чего никак нельзя совместить на деле. Мы видали примеры и не такой путаницы. Поэтому мы легко поймем, что додуматься до подобной пакости Раскольников мог и оправдывать ее мог. Но каким образом такой лирик, Гамлет, такой малодушный и слабонервный мечтатель мог найти в себе столько решимости, чтобы исполнить действительно им задуманное, это не так-то ясно. Он понимал хорошо весь ужас, его ожидающий, всю мерзость подобного дела; его возмущало, тошнило при одной мысли о том, как он возьмет в руки топор и станет бить старуху по голове; он сам признается сто раз, что знал заранее, до какой степени он не способен на этого рода вещи, и мы верим ему, нам кажется и самим, что он был не способен. У людей с таким пылким воображением и с такою болезненною впечатлительностию – энергия страсти обыкновенно бывает слаба. Они тратят ее в таком количестве и так постоянно на дело воображаемое, что ее не хватает на дело действительное. А что Раскольников был такой именно человек, то на это и в первой части (из которой мы извлекли главнейшие материалы для нашего отчета) мы находим намеки, весьма недвусмысленные – что же сказать об остальных пяти?.. Такой ужас, такие трансы и такая глубокая, тонкая, поэтическая, местами даже юмористическая оценка всего происходящего с ним, откуда оно взялось у этого человека? Не убийство же со всею его неизреченною мерзостию сделало из него такого поэта; а обратно предположить, что такой поэт мог сделать такую мерзость, – опять не приходится. Догматы узкой теории, горячая, отвлеченная голова, фанатизм, сосредоточивающий все страсти в пылающем фокусе одной безотвязной идеи, все это отлично подходит к убийству и могло бы нам объяснить его очень достаточно, и на все это есть намеки местами, но это не все и далеко не так очевидно, а очевидное, что нам встречается сплошь и подряд и в чем сомневаться почти нельзя, это то, что Раскольников был поэт. Эта черта господствует. Припомним сон его накануне убийства, припомним те фантастические и яркие образы, в которых ему рисуется его положение, и его разговор в трактире с Заметовым, и тот тонкий юмор, с которым он сам осмеивает свои ошибки, и верный отчет, который без зову, неудержимой навязчивостью является у него в минуты страшнейшей опасности, отчет о том, что он чувствует и что с ним происходит, и наконец, его тонкую, инстинктивную и безошибочную оценку людей с первого взгляда, с первого слова, – сообразим это все и повторим еще раз: да, Раскольников был поэт, и поэт, меньше всего способный к жестокому делу, – поэт лирический. Затем остается вопрос: каким образом он мог окунуться в такую грязь и, несмотря на весь ужас дела, сознаваемый им яснее, чем кем бы то ни было, не только задумать его, не только решиться, – но и исполнить действительно?.. Не спятил ли он совсем с ума за несколько времени перед делом и потом уже понемногу пришел в рассудок? Но во-первых, мы ни одной минуты до дела или во время дела не видим его в бессознательном состоянии. Во-вторых, если бы это действительно было так, то автор, конечно, не оставил бы нас в сомнении. Нет, автор не думал этого, и в этом ручаются нам несколько строк его эпилога, в которых он явно смеется над модной теорией временного умопомешательства. К тому же существенный смысл большой половины романа и одна из главнейших причин его объема, очевидно, то, что автор имел в виду довесть преступника до раскаяния. Все это было бы лишнее и не имело бы даже смысла, если б Раскольников был мономан, а не преступник. Толкование этого рода, стало быть, мы не можем никак допустить. Затем остается только одно, к, по нашему мнению, единственно возможное. Мы должны допустить, что автор сделав ошибку, не отделив достаточно ясной чертой себя от своего создания. Он был, как говорили у нас во время оно, недостаточно объективен. Его собственный, местами высоколирический, местами неподражаемо юмористический взгляд на Раскольникова и на его поступок в жару увлечения нечувствительно ускользнул от него, перешел к Раскольникову и с свойственною этому последнему дерзостью усвоен был им. Очень полезно для того чтобы лучше понять изображаемое лицо, поставить себя, как говорится, на месте его, войти в его положение и пережить собственным сердцем; но сердце и сердце рознь. Того, что чувствовал бы такой поэт, как г-н Достоевский, если бы он каким-нибудь колдовством мог очутиться действительно в положении Раскольникова, того не мог, даже к приблизительно, чувствовать настоящий Раскольников, а если бы мог, то он никогда не сделал бы такой мерзости. Это была ошибка – ошибка существенная, и, раз убедясь в ней, нетрудно себе объяснить, какие он имела последствия. Анализ, в основе своей глубоко верный, получил ложный оттенок, и этот ложный оттенок явился вокруг головы Раскольникова какою-то бледною ореолою падшего ангела, которая вовсе ему не к лицу. Что это был за человек, в сущности, об этом нетрудно себе составить понятие, стоит только припомнить две-три черты. Вспомним, как, например, он унижался перед полицией или хоть то, что во все время следствия ему не случилось ни разу даже и пожалеть, что других, невинных людей держат из-за него в остроге, что они лезли в петлю от ужаса и что их могут сослать на каторгу. Это ему казалось естественно, и он этому был даже рад, боялся только, чтоб истина наконец не открылась. И такой человек, едва успев вынырнуть из кровавой лужи, в которую он окунулся, вдруг поднимает голову и смотрит на все с высоты неприступной. На сердце у него всемирное горе, на языке язвительная сатира; это уже не мальчик, недоучившийся в школе и с голодухи озлобленный, а со злости додумавшийся до чертиков, – это Гамлет или Фауст, человек совершенно зрелый и эстетически развитой!..





