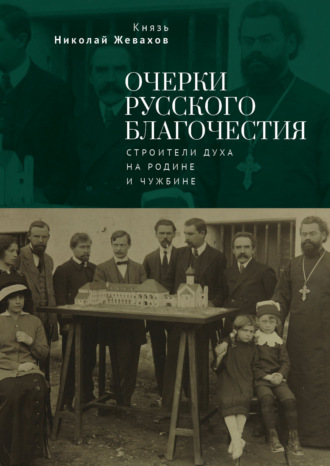
Николай Давидович Жевахов
Очерки русского благочестия. Строители духа на родине и чужбине
Такой первый опыт художественных работ учеников Лаврской иконописной школы.
Дорог, бесконечно дорог этот опыт не только по значению достигнутых целей, давший в результате великолепно росписанную церковь, но еще больше по замыслу своему.
Не эта роспись имелась в виду Ижакевичем, не техническое совершенствование учеников, для коего такая роспись могла бы служить благодарной почвой, не изыскание на этой почве разнообразных орнаментальных мотивов, а та цель, какую преследовал проф. Н. П. Кондаков и В. Т. Георгиевский[33], указывая на Ижакевича как на достойнейшего преподавателя Лаврской школы иконописи, и Владыка Митрополит Флавиан, назначая Ижакевича в эту школу.
Цель эта – восстановить наш извращенный вкус и напомнить, что искусство, будучи душою народа, и должно выражать стремление духа, а не пошлые низменные требования плоти.
Эта цель достигнута Ижакевичем и его учениками, ибо работы их не только полны религиозного настроения, но и передают такое настроение зрителю, отрывая его мысль от земли и унося ее в безоблачные дали небесной правды, радости и мира.
Киев, 5 июня 1908 г.
Верующая интеллигенция о толковании Евангелия[34]
Один глубоко верующий и просвещенный человек, в беседе со мной по вопросу о толковании Евангелия, сказал мне следующее: «Каждый человек имеет свою личную точку зрения и, потому, ему не только трудно, но иногда и невозможно отрешиться от субъективизма и рассматривать тот или иной вопрос вне какой-либо связи с личным к нему отношением. Опасность такого субъективного освещения вопроса не том, что в решение или понимание его вносится неизбежное пристрастие, а в том, что от этого страдает широта вопроса, он неизбежно суживается, приобретает окраску, ему не свойственную, и уменьшается в своем значении. От этого часто происходит то, что вопрос громадной важности, субъективно понимаемый и разрешаемый, кажется настолько узким, что утрачивает даже совсем свое значение, и, наоборот, вопросы мелкие, вырастающие на почве личных освещений, вопросы тенденциозные, крайне минимальной ценности, раздуваются, искусственно разрастаются…
Я бы не возражал против субъективизма в данном случае, если бы он не носил обязательного характера для других, но мне непонятно, почему я должен подчиняться чужому мнению, если имею свое собственное, или чужому взгляду, если считаю его неправильным. Нечто похожее происходит и здесь. Я человек православный, не только глубоко верую в Христа, но и глубоко Его люблю, совершенно искренно предан Православию, но я не понимаю, почему я лишен права воспринимать слова Христова Евангелия в том освещении, какое принадлежит мне лично или другому лицу, а именно тем немногим людям, которые оставили после себя толкование Евангелия, как то Феофилакту Болгарскому, епископу Михаилу, еп. Феофану и мн. др. Почему эти именно толкования для меня обязательны настолько, что я должен им слепо подчиняться и не иметь своего суждения, не иметь права критической их оценки? Каждый из них был достаточно субъективен, и наверное между их толкованиями есть и различия. Повторяю, что я глубоко преклоняюсь пред всеми этими людьми и уверен, что мои личные взгляды на многие из вопросов совершенно совпали бы с их взглядами, но я возражаю принципиально, имея в виду не достоинства или недостатки толкования того или иного места Евангелия, тем меньше личность толкователей, а общий дух Евангелия, его широту, его общее значение для всех христиан, ибо не вижу в Евангелии отражения предпочтительного отношения именно к православным христианам и невнимания к католикам и лютеранам и прочим религиям, а вижу в нем Слово Божие, возрождающее всех людей. А если это так, если Евангелие писано не только для православных, а для всех христиан, то зачем его суживать, зачем делать обязательным толкование его, сочиненное только православными иерархами, и запрещать такое же толкование западных богословов и даже мирян, между которыми многие пользуются уважением весьма заслуженным. Этот вопрос был для меня всегда неясным и вызывал всегда искреннее недоумение», – закончил мой собеседник.
Постараюсь, насколько сумею, разрешить ваше недоумение, не претендуя, конечно, на правильность своих выводов.
Прежде всего следует отрешиться от подозрений, если они существуют, что запрещение толковать Евангелие и устраивать с этой целью какие-либо собеседования мирян между собою диктуется политическими соображениями. Такого запрещения теперь и не существует, а наоборот, недавняя легализация евангелических союзов свидетельствует, что в этом направлении не существует, к сожалению, никаких уже преград и запрещений. Говорю «к сожалению» потому, что усматриваю в свободе толкований Евангелия не только брань против Церкви, но прежде всего страшную опасность для каждого из нас, мирян. Раньше нас защищали, теперь мы сами должны себя защищать. Но готовы ли мы к самозащите, пользуемся ли мы все в одинаковой мере средствами защиты? Конечно нет, и ясно, что теперь спасется лишь тот, кто сумеет подметить козни врага, но огромное же большинство людей отпадет от Церкви и погибнет, ибо вне Церкви нет спасения.
Перейду к затронутому вопросу. Почему я считаю толкования православных богословов обязательными для нас даже в том случае, если не постигаю их или не согласен с ними? Вот почему: потому что эти толкования как бы боговдохновенны. Я не хочу, однако, ограничиваться таким ответом, a подробно выясню, что я под этим словом понимаю. Мнение, по которому Евангелие изложено таким простым и ясным языком, что для всех удобопонятно, – крайне ошибочно. Читая Евангелие, мы восхищаемся красотою и величием его и отсюда заключаем, что понимаем прочитанное. Нет, это неверно. Мы видим лишь то, что лежит на поверхности, но сущность Евангельских истин открывается нам не сразу, а по мере усвоения этих истин личным опытом, по мере воплощения этих истин в личную жизнь, по мере нашей собственной духовной жизни и связанных с нею личных подвигов. Иначе бы все грамотные люди понимали Евангелие, но этого нет, ибо не все грамотные люди духовно просвещенны. Понимание Евангелия неразрывно связано с духовным просвещением, и понимать Евангелие могут только духовно просвещенные люди. Но духовное просвещение является результатом не только одного чтения Евангелия, но и воплощения его в жизнь, как я уже сказал. По мере нашего духовного роста, пред нами будут всё более и более, всё яснее и яснее раскрываться истины, которых мы прежде не замечали или, если и замечали, то неверно понимали. Истинное же понимание Евангелия является лишь тогда, когда мы не только будем в состоянии проверить на собственном опыте всякую Евангельскую истину, всякое положение, всякую заповедь Христову, но и действительно проверим. Очевидно, что если мы станем толковать эти истины, не пережитые опытом, только по личному впечатлению, только так, как нам «кажется», то мы рискуем впасть в ошибку и ввести в заблуждение другого. Правда, вы можете возразить, что Евангелие для того только и возвещено людям, чтобы просвещать их, и вывод, что его могут понимать только духовно просвещенные люди, может показаться вам произвольным. Однако противоречие здесь только кажущееся. Здесь больше чем где-либо подчеркивается значение и сила веры. На первых порах, читая Евангелие, мы должны свято верить каждому положению и слепо следовать заповедям Божиим. И только тогда, по мере усвоения прочитанного и воплощения его в жизнь личную, мы узнаем опытом духовным то, что раньше воспринимали одною только верою. Идя по этому пути вперед, всё вперед, мы дойдем до того места, где вера и знание сольются, и только тогда мы скажем, что видим не только красоту и величие Евангелия, но понимаем и его могущество и силу.
Эти положения кажутся мне достаточно убедительными для того, чтобы признать мое личное разумение Евангелия ошибочным и слепо довериться разумению тех, у кого духовные очи были более открыты, чем у меня, кто был чище, духовнее, опытнее меня, чья праведность была засвидетельствована не только людьми, но и самым Богом. Все эти люди великими подвигами стяжали себе дух премудрости – дар рассуждения, и к их словам, к их толкованиям и нужно относиться, как бы к откровению самого Бога. Это положение так же, как и прочие, допускает опытную проверку. Правда Христова – одна. И какими бы путями мы ни шли к ней, сколько бы препятствий ни преодолевали, но, если мы будем, действительно, идти к ней, а не стоять на одном месте, мы неизбежно придем к ней, но мало этого, мы обязательно станем на тот же путь и пойдем тою же дорогою, какою шли раньше нас. Возьмите для примера хотя бы такое положение: Христос Спаситель сказал, что в деле нравственного совершенствования не должно быть никаких остановок, что тот, кто не собирает, тот расточает, и что духовно богатому человеку дано будет еще больше духовного богатства, чем то, какое он имеет в данный момент, а от бедного отнимется и то, что он собрал. Как бы мы ни отнеслись к этим словам, но поистине познает эти слова во всей их силе и красоте только тот, кто захочет их применить к себе. Пред ним откроются тогда столь невиданные и невоображаемые горизонты, он испытает столько неизведанных ощущений, что только тогда познает могущество этих слов Христа. Он подметит удивительную стройность и гармонию законов духа, подметит связь между отдельными фактами и действиями не только в своей личной, но и в мировой жизни, и быть может впервые заметит это логическое соотношение между действиями и причинами, их вызвавшими. Но мало этого, и это особенно важно, он заметит то, что мешало ему двигаться по пути к очищению и какие именно препятствия мешали его духовному росту – заметит козни и злоухищрения диавола. Я заключаю отсюда, что духовный опыт разных людей приводит их к одинаковым выводам – к единой истине. Но вы скажете мне, что пути к этой истине могут быть различны у разных людей и что не может быть общих рецептов усвоения истины и, следовательно, общих ощущений, и что по этой причине и толкования Евангелия, поскольку они принадлежали разным людям, идущим разными путями к Богу, могут быть различными.
Если бы это было так, то нам не о чем было бы и спорить. Но дело именно в том и заключается, что не только истина едина, но и пути к этой истине едины, и ощущения, связанные с усвоением истины, также едины.
Личный духовный опыт разных людей только потому и приводит людей к познанию единой истины, что дарует им единые ощущения. Вот почему действительное единение существует лишь между теми, кто испытал одинаковые ощущения в области духовной жизни, кто, как говорят, с полслова понимает другого. Но разве такое единение было бы мыслимо между нами, если бы мы шли разными путями к истине. Единство пути – вот единственный источник единения между людьми. Духовная жизнь имеет свои ясные, определенные и одинаковые для всех законы. И всякий человек – кто бы он ни был, ученый ли богослов или неграмотный человек, живя духовной жизнью, станет испытывать совершенно тожественные ощущения, как при самом начале, так и потом, по мере своего духовного роста. Вот здесь и требуется осторожность в высшей мере. Чрезвычайно важен именно первый шаг. Если мы станем на верный путь, то, отыскав первый шаг, мы безошибочно сделаем и второй и неизбежно дойдем до конечной цели, если сознательно не свернем с пути. От первого шага зависит всё. Но если этот первый шаг будет неправильным и даст нам ложную перспективу, то мы очутимся еще дальше от цели, чем тогда, когда стояли на одном месте. Нужно ли, после этого, говорить о том, насколько важно для нас руководство в духовной жизни именно тех людей, кто сделал не один или два шага вперед, а тех, кто дошел уже к самой цели и тем доказал, что шел верным путем, кто очистил себя подвигами и страданиями и прославлен Богом. И руководства всех этих людей изумительно сходны между собой, и это сходство служит лучшим доказательством единства пути к истине, по которому все они шли к ней. Вот почему в толкованиях Евангелия разных людей – вы заметите поражающее сходство, совершенное тожество. Различие же вы усмотрите там, где толкование основано не на законах духовной жизни, а отражает лишь личное впечатление от прочитанного, но опытом не пережитого, жизнью не усвоенного положения. Эти толкования принадлежат людям, сделавшим один или два шага по пути к истине, но к ней не дошедшим, и ее не воспринявшим.
Но среди всех известных Церкви толкований вы не найдете ни одного такого, ибо между толкователями Евангелия не было ни одного дилетанта. Все наши толкования Евангелия принадлежат богомудрым отцам Церкви, известным своим высоким духовным опытом. И вот именно это опасение пустить в обиход толкования Евангелия дилетантов и лежит в основании совета, а не требования, обращаться для руководства, при чтении Евангелия, к толкованиям этих великих духовным опытом отцов Церкви. Согласитесь, что такое опасение продиктовано сердечным участием и любовью к пасомым и никаких иных целей не преследует.
Что касается положения, по которому Евангелие имеет в виду всех христиан, а не только православных, и что толкования западных богословов могут быть по своему достоинству не ниже православных, то на это можно возразить, сделав лишь общую ссылку на различие религий по существу. Различие это всё же настолько существенно и касается так близко столько же целей Евангелия, сколько и способов их достижения, что никакие компромиссы в данном случае невозможны. Лютеранство, например, преследует самые высокие цели, но все эти цели земного характера, продиктованы любовью к ближнему на почве устроения его социального благополучия, тогда как по учению православной Церкви – Евангелие есть «благая весть», возвестившая людям учение о спасении души, весьма далекая от идеи земного благополучия. Лютеранство переносит идею служения Христу на внешнюю почву, Православие же наоборот, подчеркивает преимущественное значение личного подвига. Заповедь любви к ближнему, по учению лютеранской церкви, измеряется внешней высотой этого подвига, тогда как, по учению православной Церкви, центральным местом в данном случае является степень личного самоотвержения, высота личного подвига, личная жертва.
Возьмите для иллюстрации этого положения такой пример: пред нами голодный, оборванный нищий. Как осуществить в данном случае заповедь Христа о любви к ближнему? По мнению лютеранина, она будет осуществлена тогда, когда нищий будет одет и накормлен, причем форма помощи безразлична: можно и в карете привезти ему кусок хлеба и пару платья, можно и чрез лакея передать. По ученью же православной Церкви, эта заповедь будет осуществлена лишь при наличности сердечного участия к его положению, причем цель может быть и не достигнута, и нищий может остаться и голодным и оборванным, важно участие в деле личного подвига, и чем больше он, тем лучше исполнена эта исповедь[35].
Сочетать эти религии, очевидно, невозможно, и даже попытки указать способы спасения людей в служении только земному благу ближнего, навсегда останутся попытками, ибо очевидно, что невозможно желать ближнему для его спасения того земного блага, от которого мы сами нашли нужным в целях своего спасения отказаться. Аскетизм всё же останется навсегда основным мотивом не только Православия, сохранившего в себе это требование, но и всего христианства, но этот мотив сохранился во всей своей неприкосновенности только в Православии. Вот почему прибегать к руководству в деле личной и общественной жизни, в целях личного и общественного духовного роста к рационалистическим учениям западных богословов, вместо того, чтобы следовать указаниям духовного опыта свв. отцов и учителей православной Церкви, значит, по моему мнению, останавливать этот духовный рост.
II. Памяти подвижников
Памяти Николая Николаевича Неплюева[36]
«Крестовоздвиженское трудовое общество, мать и сестры с глубокой скорбью извещают друзей, родных и знакомых, что 21 января, в 2 ч. дня, после тяжелой болезни, волею Божьею скончался тихо учредитель и первый блюститель братства Николай Николаевич Неплюев. Погребение в четверг, 24 января, в час дня, в Воздвиженске».
Болезненным стоном отозвались в душе многих христиан эти строки!
Покинула наш ужасный мир еще одна чистая душа! Осиротела семья, осиротело Крестовоздвиженское Братство, осиротели все, кто знал незабвенного, бесконечно доброго Николая Николаевича.
А знала покойного не только Россия, но и вся Западная Европа, дававшая истомленной душе его приют и покой и лечившая его раны, с которыми он так часто возвращался из России.
Но еще мало знать человека, нужно его понимать! А чтобы понимать другого, нужно так много условий и среди них так много личных обязательств, обусловливающих чистоту духовного зрения, что, неудивительно, если только очень немногие понимали Николая Николаевича; большинство же относило покойного к общему числу заурядных благотворителей, занимавшихся филантропией от избытка средств и времени. Еще некоторые отказывали даже в искренности и усматривали в Крестовоздвиженском Трудовом Братстве отражение побуждений, связанных с честолюбием учредителя.
Но такова уже общая участь чистых людей! Их осуждают, не стараясь рассмотреть, осуждают не потому, что они плохи, а потому, что, будучи хорошими, они могли бы быть еще лучше, и осуждают неизмеримо строже тех, кто ничего не делает и не собирается делать.
Дело Неплюева было делом, завещанным каждому из нас Христом Спасителем – созидать Царство Божие на земле. В другое время и при других условиях ни дело, ни делатель не останавливали бы на себе ничьего внимания, ибо ни в ком не могло вызвать удивления то, что человек делает свое непосредственное дело, Самим Богом ему заповеданное.
Но Николай Николаевич жил в наше время, когда этого дела никто не делает, а значительное большинство даже не предполагает, что его нужно делать, и не подозревает, что это дело есть единственное, дающее живое содержание жизни, и что без него она мертва.
Вот почему имя Николая Николаевича было всегда окружено ореолом таинственности и пугало весьма многих, склонных видеть в его лице опасного новатора и реформатора, а в созданном им Крестовоздвиженском Трудовом Братстве – выражение чуждых русскому самосознанию и нежелательных идей. Я не буду, впрочем, останавливаться на внешней стороне деятельности Н. Н. Неплюева.
Верно ли понимал он свою задачу, отразило ли Крестовоздвиженское Братство величие идеи учредителя – всё это вопросы, требующие самостоятельного изучения, и для ответа на них еще не пришло время. Ответить на эти вопросы может только последующая жизнь Братства. Но, если, в худшем случае, исполнятся предсказания недоброжелателей покойного, и члены трудового Братства, после смерти учредителя, поделят между собою завещанное Братству имущество, то такой факт, если бы случился, обнаружил бы только отталкивающую низость братчиков, но, конечно, не омрачил бы величия идеи учредителя. Он подчеркнул бы только лишний раз трагизм одиночества в борьбе со злом, нашедшим в нашем русском невежестве исключительно благодарную почву и выросшем уже до неслыханных размеров, и в то же время доказывал бы всю силу веры и любви Николая Николаевича к тем, кто, быть может, не стоил и его внимания. Наверное, не одна идея, признанная мертвой, вернулась бы к жизни дружным содействием тех, кто вовремя не подал помощи. Но, если нельзя судить о жизненности идеи по характеру ее выражения, то тем меньше нельзя по внешнему облику идеи судить о мотивах, вызвавших ее к жизни. Однако не только эти соображения удерживают меня. Я не касаюсь внешней стороны деятельности Н. Неплюева еще и потому, что не связываю с нею значения и величия нравственной личности Николая Николаевича.
Никакие учреждения, как бы величественны и грандиозны ни были, не могут ни прославить, ни оправдать человека пред Богом, и это нужно помнить особенно в наше время, оценивающее общественную деятельность с точки зрения громких заглавий и вывесок, благодаря чему погоня за внешностью стала преобладающим фактором деятельности обидного большинства. Важна не количественная сторона деятельности, а качественная, не заранее намеченные грандиозные цели, а чистота побуждения, не предуказывающая никаких целей. Важно, другими словами, что ответил Неплюев на вопрос, который неизбежно будет предложен каждому из нас пред смертью, но теперь занимает лишь весьма немногих – остались ли мы верными Христу, или покинули мир изменниками Богу? Только с этой стороны возможна оценка нравственного содержания личности и ее значения, а не со стороны внешнего выражения этого содержания, часто не отражающего его, или отражающего неверно, ибо важно не то, что человек сделал, а то, какое место он занимал в общей цепи людей, идущих к Богу, как отнесся к голосу Христа, призывающего его к жизни.
Если бы в поисках Христа мы были предоставлены самим себе и для того, чтобы отыскать истину, или хотя приблизиться к ней, были вынуждены бросаться из одного места в другое, если бы мы были лишены ощущения истины, с коим родились, или не знали бы, где она находится или в чем состоит, что указано Христом; а вместо этого были вынуждены собственными усилиями доходить до познания истины и собственными усилиями приближаться к ней, тогда мы не имели бы греха, ибо не знали бы, что значит компромисс. «Если бы Я не пришел и не говорил, то не имели бы греха: а теперь не имеете извинения в грехе своем» (Иоан. гл. 15, ст. 22).
Но Христос стоит безотлучно подле каждого из нас, оберегает от малейшего дуновения греха, ежеминутно предостерегает от падения, безостановочно зовет к Себе, и сколько великих чудес, сколько чрезвычайных проявлений Промысла Божия было бы записано на страницах истории, если бы у нас открылись духовные очи и, заметив это небесное покровительство, мы бы сказали, что действительно не одиноки! А для этого нам нужно научиться только слышать, ибо Господь обращается к людям на языке, для всех одинаково понятном. «Имеющие уши слышать, да слышат», – неоднократно повторял Христос.
Но мы очерствели, мы изумительно глухи к зову Христа, мы даже не замечаем этого зова, не угадываем его в его разнообразнейших, бесконечных проявлениях. Но этот зов не умолкает, ибо как бы ни довольствовался человек содержанием своей жизни, как бы ни старался разнообразить это содержание так, чтобы всегда быть радостным и счастливым, однако нет человека, который бы не встречался в своей жизни с такими моментами, когда вдруг всё его окружающее кажется ему немило, когда программа его жизни кажется ему неверной, когда всё здание его жизни, с такою любовию воздвигаемое, не только не удовлетворяет его, но кажется ему тем ненужным балластом, от которого он желал бы освободиться…
Он чувствует где-то роковую ошибку в жизни, с ужасом догадывается, где она, но не имеет мужества признаться себе в том, что эта ошибка, обесценившая на мгновение всю его жизнь, со всеми ее задачами и запросами, заключается только в том, что в основании ее им была положена идея его личного блага, а не исполнение воли Того, Чья воля должна быть исполнена безотносительно к этому благу. Это – те моменты минутного часто просветления, какие на языке нашей обыденной жизни называются пресыщением, утомлением, разочарованием, а по народному верованию признаются Божиими посещениями.
Для огромного большинства людей эти моменты являются лишь редкими исключениями в жизни, и над ними не принято задумываться, а наоборот, принято гнать их от себя как нечто ненужное, вредное, нарушающее гармонию их жизни, создающее ненужные диссонансы в ней; для некоторых, более чутких людей они являются теми радостными солнечными лучами, которые, освещая фон их жизни, позволяют им рассмотреть сквозь призму этих небесных лучей всё неясное в их жизни и проверить ее содержание, еще для некоторых – эти моменты являются зарею новой жизни, теми сигналами, при одном звуке которых они опрокидывают свою прежнюю жизнь и перестраивают ее на совершенно иных началах.
Труден, непередаваемо труден первый шаг навстречу к этим лучам!
Но, по мере приближения к ним, всё яснее и яснее освещаются горизонты вечной истины, всё легче и легче становится распознавать действительное от воображаемого, истинное от ложного, и тогда обостряется духовное зрение, при помощи которого становится до очевидности ясно не только то, что на противуположных полюсах мировой жизни человечества лежат два враждебных начала – истина и ложь, но и то, что средины между ними нет и не может быть, что свободной воле человека предоставлено избрать для руководства в жизни одно из этих начал, и что нет безразличных мыслей, поступков или действий, которые бы не могли быть отнесены к природе того или иного начала, или могли бы существовать вне связи с ними.
Тогда на фоне небесного света, во всей лучезарной красоте своей, выступают слова Христа Спасителя: «… а Я говорю вам – да будет слово ваше да, да, нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого». (Мф. гл. 5, ст. 34, 36), сказанные тем, кто думал, что христианская мораль допускает какие-либо компромиссы между нравственным долгом и отношением к нему. Тогда ясно, что между «да» и «нет» не может быть средины, и что всё, что не отвечает требованиям правды – является ложью, что нельзя одновременно служить Богу и мамоне, и что тот, кто не собирает, тот расточает. Тогда открываются духовные очи, и компромисс обнаруживается там, где логика поврежденного разума никогда его не усматривала.
Н. Н. Неплюев услышал этот призыв Христа в блестящей обстановке придворного бала, при дворе Баварского короля.
Его нежная чуткая душа и в звуках оркестра уловила стоны Распятого Бога и с тех пор уже не могла успокоиться. Блестящие дарования, колоссальное богатство, знатность, исключительное служебное положение, открывающее заманчивые перспективы карьеры, – словом всё, что ценится здесь на земле так дорого, что служит целью неутомимых исканий огромного большинства, – всё это утратило в глазах Николая Николаевича всякую цену и значение.
Он познал вечную цель и, познав ее, сделался духовно свободным. С этого момента в жизни Неплюева наступает резкий перелом. Рвутся мирские привязанности, крепнут духовные связи. Он сбрасывает с себя блестящий мундир дипломата и, сопровождаемый несомненными благословениями свыше, нашедшими свое выражение в знаменательных снах, описанных им на страницах III тома полного собрания его сочинений, покидает службу, чтобы ехать в одно из своих имений, в Черниговскую губернию, просвещать светом Истины Христовой крестьянских детей.
Одна за другой вырастают школы, низшие, средние, специальные, приюты, богадельни, больницы, – словом всё, что требовалось для духовного оздоровления и нравственного просвещения крестьянства. Затем деятельность Николая Николаевича начинает отражать во вне те мотивы, коими определялась его основная идея. Подготовлялся постепенно переход к стройной трудовой общине, основанной на началах братолюбия, и выросшей впоследствии в известное Крестовоздвиженское Трудовое Братство. Николай Николаевич делается проповедником идеи создания трудовых братств, повсюду возвещая, что труд и любовь являются надежнейшими способами устроения Царства Божия на земле, что пора, наконец, перейти от разрушительной силы зла к мирному созиданию добра в жизни. Проповеди этой идеи была посвящена половина жизни Неплюева. И с этой стороны Николай Николаевич и известен огромному числу своих учителей, друзей, знакомых и недругов. Предшествующая же деятельность Неплюева, связанная с воплощением идеи в форму Крестовоздвиженского Трудового Братства, где неизбежные испытания, какие рождались при столкновениях идейного чувства с низменными побуждениями среды, страдания, сомнения, колебания, – словом всё, что сопровождает всякого идейного труженика в наше скорбное время меркантильного расчета – всё это почти никому не было известно. Неплюева судили за недостатки его проповеди, за неверные исходные точки отправления мысли, неправильные положения и выводы, и только немногие замечали, какое благородное сердце бьется в груди проповедника, сколько чистой любви Христовой носит с собою этот человек, как мало он озабочен тем, чтобы отстоять то или иное свое положение, ту или иную свою мысль, и как страстно ожидает, чтобы из его слушателей хотя бы один, другой обратился ко Христу и полюбил Его. Его добрые, проницательные глаза с такой любовью смотрели на слушателя, что в тот момент было невозможно не ощущать в своей груди отзвука на его святое чувство.
И как часто эти глаза встречали в ответ безграничное недоумение и удивление, как часто отражали мучительную скорбь, встречаясь с равнодушием или сытым довольством!
Проходили годы. Нестроения внутри государства росли, стали появляться всё более грозные признаки торжества духа злобы, признаки, столь очевидные духовному зрению, но не всеми замечаемые, и Неплюев с удвоенной энергией принялся за проповедь идеи мирного созидания добра в жизни, призывая соединиться, сплотиться, образовать партию мирного прогресса, чтобы viribus unitis[37] противостать дружному натиску злой силы.
Но повсюду он встречал изумительное равнодушие общества, и, параллельно с самыми безотрадными ожиданиями и даже преувеличенными страхами, – удивительное нежелание активного участия в борьбе с неправдою в ее многообразных проявлениях.
Спасение – не в учреждениях, отвечали Неплюеву, а в людях. Да, как бы говорил Неплюев, но помнить нужно и то, что жизнь, не согласованная с ее целью, не приспособленная к спасению, никогда и не приводит к нему, ибо та внутренняя духовная борьба, какая шла бы на совершенствование нравственное, будет неизбежно идти на преодоление внешних препятствий, на ненужную трату сил и энергии, на безостановочное трение, а в результате получится, что обессиленные в такой борьбе люди могут легко погибнуть и для себя и для других, потеряв в такой борьба все свои силы.
И это убеждение было единственным импульсом деятельности Неплюева.
Может ли теперь иметь место вопрос, в какой форме реализовалось это убеждение Неплюева, а тем более вопрос о достоинствах или недостатках созданного им учреждения? Конечно, нет! Для Неплюева было неизмеримо важнее воплощение духа идеи, чем забота о ее техническом совершенстве.
Для нас же неизмеримо важнее знать, как отнесся Неплюев к призыву Христа – ринулся ли, забыв себя, в объятья Бога Небесного, заглушил ли разнообразными впечатлениями жизни этот призыв, обнаружил ли постыдное малодушие, колеблясь между выбором служить Христу или миру, чем знать то, сколько школьных зданий, или больниц, или богаделен выстроил он в своих имениях, или какое государственное значение имеют созданные им учреждения.


