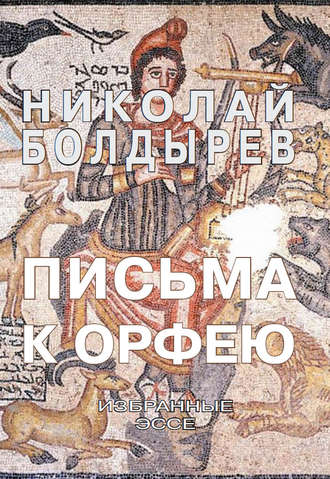
Николай Болдырев
Письма к Орфею. Избранные эссе
Источник формирования «тонких заточек» в себе Рильке обрисовал весьма рельефно в письме из Мюзота Альфреду Шэру (26 февраля 1924): «<…> Я часто спрашиваю себя, не оказало ли существеннейшего влияния на весь мой склад и на мое творчество нечто само по себе незначительное: общение с собакой, то время, когда я часами просто наблюдал в Риме за канатным мастером, повторявшим древнейшие в мире жесты, … в точности как за тем горшечником в маленькой деревушке на берегу Нила – просто стоять возле его крутящегося диска было для меня чем-то неописуемым и в некоем потаённейшем смысле плодотворным. Или когда мне было даровано брести рядом с пастухом по окрестностям “Бо”, или в Толедо, в обнищавшей церковке в обществе нескольких моих испанских друзей и их спутниц слушать пение той древнейшей новены,36 которая в 17 столетии, когда эта традиция подавлялась и запрещалась, была вдруг спета в этом храме ангелами… Или когда столь несравненное существо как Венеция оказалось мне столь интимно близкой, что иностранец в высоко-маневренной гондоле мог с успехом спрашивать меня о любой цели, какая ему нужна…: всё это – не правда ли? – и было “влияниями”. Остается назвать лишь, вероятно, самое важное: то, что я смог побывать один, в полном одиночестве в столь многих странах, городах и в ландшафтах, без помех, увидеть их во всем многообразии, подвергая себя новизне всем своим слухом и всем послушанием моего существа, смиренно вслушиваясь в эту новизну и все же каждый раз вынужденный отрывать себя от нее…»37
Признание впечатляющее. Рильке не мог ощущать себя полноценно творческим существом вне странствий, вне притока всё новых и новых, идущих из внешнего мира впечатлений, причем приходящих к нему именно тогда, когда он не связан ни с кем ни малейшими обязательствами. Ни о каком реальном диалоге с Другим тут речи идти не может. Диалог надо выстраивать, это дело строителя, а не странника. Сравним с внутренними потоками Толстого, ничуть не менее Рильке сенситивного и внимательного к вещной реальности, чувствовавшего, что ножик живой, что дерево есть отдельная сознательно-душевная реальность. И все же, задумав пеший переход через швейцарские Альпы, молодой Толстой понял, что один он идти не хочет, ему нужен спутник и притом такой, которому будет нужна в дороге его помощь и забота. И он находит мальчика, и вдвоем они совершают это многодневное путешествие. Толстой чувствовал потребность не замыкать свое сознание в капсулу эстетика-созерцателя; тот, чаемый Райнером поворот от чистой автономной созерцательности к творчеству-сердца, который Рильке совершить так и не смог, Толстому, собственно, и не был нужен: сердце в нем было зрелым с рождения. Достаточно перечесть его «Севастопольские рассказы» или автобиографическую трилогию.
Современная поэзия только на том и держится, что для поэта-странника уникально-единственны и в этом смысле возлюблены сотни и тысячи объектов. Любовь здесь носит эстетически-игровой, но отнюдь не экзистенциально-этический характер, как то происходит в универсуме Толстого. Ведь даже богословски вышколенный Кирке-гор, полагавший брак лучшим средством формирования экзистенции этического, вынужден был отказаться от женитьбы, понимая неимоверную сложность соединения поэтической трансформации души с каждодневной реализацией этического. Он вынужден был признаться себе, что ему это не по силам: вот в какого рода импотенции он каялся! Киркегор мечтал и надеялся совершить немыслимое: перепрыгнуть через этическое, соединив в этом гениальном прыжке поэтическую страсть с религиозной пневматической трансформацией. Даже такой кульбит представлялся ему чем-то более простым и посильным, нежели реальное этическое творчество. Примерно этим же путем пошел и Рильке.
Из брака (с Кларой Вестгоф) он вышел почти немедленно: едва началась “этическая стадия”, он попросту бежал, хотя и с взаимного согласия: ответственное соприкосновение сердец убивало Рильке-поэта. Поэт Толстой пронес этот гигантский крест через половину столетия, что само по себе есть чудо подобное чуду веры: здесь то высокое горнило, то давление, которое только и может создавать истинный кристалл. Это было осознанно избранное труднейшее из всех творчество сердца (именно-таки тот Herzwerk, о котором лишь мечтал Рильке, так и не поняв, как к нему подступиться): ни в коей мере не ожидание поэтических мизансцен и наслаждений, но ожидание труда; то был библейского рода вызов, который Толстой бросил сам себе. И когда он вошел в стадию этического творчества как целостного экзистенциального процесса (как о том мечтали еще йенские романтики), то он и работал как пахарь, стремящийся знать доподлинно свое поле, а не как идеалист-богослов, ни капельки реально не отвечающий за пафос своих призывов.
Рождается подозрение, что Рильке мечтал о реальной встрече с великой любящей, которой он сам бы стал объектом. Она согласна была бы любить его безответно и даже находить в этом великий смысл, прощая все его побеги, все любови на стороне и все возвращения. Однако все великие любящие из его поэтического пантеона тем-то и объединены, что все их любови – плод не реально-телесного, не ответственно-трудового, а спиритуалистического желания. Рильке верно отмечает, что вскоре, не получив ответного чувства, они начинают пылать так сильно, бросая в топку страстного горения как такового всю свою совокупную энергетику, что сама платоническая сила пламени перерастает «объект желания» и устремляется на бесконечное Существо. Как это могло нравиться Рильке? Разве он не видел в этом сублимационно-эстетических игр, своего рода онанизма неизбежно тщеславных чувств? В то же время почему, направив свое внимание на Толстого, он не заметил, что в своем пятидесятилетнем браке поэт и философ как раз и любил безответно. Это ли был не повод объявить его великим любящим?38 Но Рильке объявляет великой любящей Татьяну Александровну Ергольскую, которую Толстой называл тетушкой и которую любил не меньше, чем она его. Но об этом чуть позднее.
В эссе «Завещание», уже названием дающем понять взвешенную итоговость выводов, Рильке определил для себя любовь как всю полноту своего поэтического труда. Для Толстого это бы звучало как самоуспокоение сознания еще вполне незрелого, не готового встретиться именно-таки с личным Богом «с глазу на глаз», лицом к лицу. Подлинное, зрелое творчество начинается, по Толстому, с осознания человеком этической своей природы, если, конечно, он действительно хочет соприкоснуться с первородной реальностью, с той, о которой Рильке писал в «Первородном шорохе», где Создатель прочертил на черепе человека первую «звуковую дорожку». Эта дорожка, по Толстому, прочерчена в основании души человека, и дорожка эта не музыкальная (то есть не соблазн таящая), а этическая, что уводит сознание Толстого в бездны мистического, а отнюдь не социального. Толстой понял чрезвычайно важную вещь, которую в каждом поколении постигает лишь горстка: в качестве художника высокого ранга (истинного поэта) человек лишь принимает весть из глубин, весть эта не сотворена человеком, так что творчеством в собственном смысле это не является. Но человеку дана сфера, где он единственно-уникально может быть творцом, и эта сфера – этическое измерение. Лишь здесь достижения человека воистину важны и для Бога, и для Универсума. Они меняют облик универсума.
Этическое творчество не должно быть отдано на откуп богословию, как это происходит сегодня. Толстой, конечно же, великий поэт именно в этом смысле, и именно таковым он и стал в последние 25 лет своей жизни. Однако кто созрел до поэзии такого уровня?
5
Здесь вырисовываются силуэты двух обликов Универсума. Обожествляя художника во «Флорентийском дневнике», Рильке исходил из той интуиции, что сам корень и исток Вселенной в той мере, в какой она способна нам открываться, неким сквозным образом поэтичен. Универсум есть нескончаемый и бездонный кратер творимой и изливающейся поэзии с какой-то немыслимо гигантской буквы. В этом смысле он безусловно равнодушен к собственно этическому, которое, конечно, присутствует (Рильке не забывает упомянуть о «симпатии к нам звезд»), но не в качестве чего-то основополагающего. Этос в космосе есть, но он требует от нас не столько этических действий, сколько полной открытости навстречу слиянию всего нашего психо-соматического состава с составом идущего на нас энергетического потока.
Однако же в наших действиях и созерцаниях всегда должен быть акцент. В мироощущении этого типа акцент в общем и целом сделан на эстетику, на красоту как силу с бесконечным дном.39 Толстой как никто дал иную обрисовку облика Вселенной. Ничуть не отрицая всей мощи чувственно-эстетических энергий мироздания, он тем не менее, освободившись от оков и чар эстетики, в которую мы, как в морок, все погружаемся с рождения, открылся видению того основания, на котором клокочет, паразитируя в декадансных ароматах и цветных туманах, эстетика. И это основание духа Толстой почуял (посредством открывшегося ему нового слуха) как творчество совсем иного плана, уже не могущего быть овеществленным в предметах, пусть даже самых прекрасных с точки зрения принятого в обществе вкуса. Более того, Толстой уловил один из законов этого более глубокого и тонкого измерения универсума: «Чем больше мы отдаемся красоте, тем сильнее удаляемся от добра».
Конечно, схема, которую я нарисовал, достаточно грубая. Во-первых, Рильке никогда даже и близко не был адептом теории «эстетика – мать этики», и кристалл стихотворения выражал для него отнюдь не идею блеска алмазов и бриллиантов, скорее уж свидетельствовал о космогоническом отшельничестве души. Во-вторых, в целом его развитие шло, как мы знаем, в направлении от «православно-языческого францисканства» (если возможен такой замес) к «ангелической» Открытости полносоставному бытийству, что бы оно человеку ни несло, хотя бы и гибель. В третьих, зрелый Рильке ощущал космос как душевно-духовную монаду, таинственным образом обращающуюся к нашему высшему этическому сознанию посредством аналогичного измерения в нашей индивидуальной душе. И когда он пишет:
Звезда с цветком – тихи́ – с нас не спускают глаз.
И кажется порой, что мы для них – экзамен.
Но чувствуем: они экзаменуют нас, —
то совершенно ясно, что этот экзамен не так уж сильно отличается от того экзамена, которому подвергал себя Толстой. И в-четвертых, поздний Рильке всё скептичнее смотрел на поэзию как на всецело художественный продукт, отвлеченный от душевного созревания того, в ком он зреет. Посредством поэзии, понимаемой как восприятие, в поэте созревает нечто более важное и сущностное, и, подобно строительным лесам, стихи могут быть и не демонстрируемы, ежели они действительно выполнили свою “невидимую” работу в четвертом измерении внутреннего космоса (Weltinnenraum`а).
В сущности, у Рильке с Толстым немало общего в понимании религиозного пути. Если для Рильке Бог – не предмет, уже заранее готовый, не объект культа, но направление твоего внутреннего пути, то и Толстой понимал религиозное состояние как внутреннее царство, которое мы заслуживаем упорной каждодневной работой по созиданию Божьего царства в себе. «Любовь к Богу, – писал Толстой, – <есть> направление, а выражение его внешнее есть любовь к ближнему». Или: «Сойтись по-настоящему могут люди только в Боге. Для того чтобы людям сойтись, им не нужно идти навстречу друг другу, а нужно всем идти к Богу…»
Толстой всегда ставил перед собой предельные для своих сил цели и задачи, доходя до тех или иных пограничных в себе ситуаций. Рильке тоже чувствовал магию предельности. В речи перед шведами в Фуруборге в ноябре 1904 года: «Здесь (в России. – Н.Б.) я постиг, что свою жизнь надо проживать с максимальной широтой, – и притом вглубь, не завися от требований дня текущего. И что нельзя заниматься тем, что вблизи, если чувствуешь в себе влечение к тому, что находится чуть дальше или совсем-совсем далеко. И что дозволено уходить в мечтанья в то время, когда кто-то кого-то спасает, если эти твои грезы являются более реальными, чем сама реальность, и нужнее, чем хлеб насущный. Одним словом, в России я постиг, что критерием жизни должна стать предельная возможность из всех, какие носишь в себе. Ибо наша жизнь велика, и грядущего в нее может войти ровно столько, сколько мы способны вместить. И пространство искусства – лишь в жизни, которую мы раздвигаем до бесконечности. <…> Я почувствовал, что человек, жаждущий быть творцом в искусстве, должен стать таким же терпеливым, серьезным и независимым от своего времени, как эти русские люди. Что он должен так же, как они, тихо, кротко и неуклонно двигаться к Великому, к Вечному».
Райнеру мешала слава Толстого. Слава грешна, и Рильке полагал, что Толстой отчасти сам ее создал. Мятущийся меж крайностями эстетических движений художник и мыслитель Толстой ему был ближе, чем Толстой после переворота, чье внутреннее движение уже невозможно было наблюдать извне; там требовалась иная оптика. В письме Александру Бенуа поэт писал 28 июля 1901 года: «…Подумайте о беспредельной свободе тех, кто не обременен славой, кто безвестен; именно этой свободой философ и должен оберегать себя; он должен каждый день обновляться, оспаривая самого себя. Разве настоящим, растущим Ницше был не тогда, когда противоречил самому себе и разве его спад не начался с момента, когда он занялся собственной систематизацией?40 Разве Толстой, состоящий из тысячи противоречий, не был великим, несравненным художником, в то время как сейчас он лишь с трудом прорывается сквозь органическое окаменение своего личного жизневоззрения, словно та чудесная весенняя трава в начале “Воскресения”?..»
Рильке смущала плотность связей Толстого в пространстве земного универсума: Толстой всегда был здесь, когда же он ускользал, когда бывал в полном одиночестве? Вопросы для Рильке не праздные, ибо он весьма страшился быть “пойманным миром”. Ведь и сама автоэпитафия поэта фактически звучит как своего рода рифма к автоэпитафии Григория Сковороды («Мир ловил меня, но не поймал»): «Спать Ничьим сном…» То есть: мир не смог поймать меня в клетку имени. Потому-то такая подозрительность и потому, вероятно, Рильке так и не узнал в Толстом, бежавшем из Ясной Поляны в 1910 году, своего Мальте.
Что касается реакции художника на свою известность, то момент этот, конечно, зависает в воздухе. В воздухе времени, равно и вневременья. Я, пишущий эти строки, сам не раз задавался этим недоуменным вопросом: почему Толстой, более чем самодостаточное существо, десятилетиями принимал у себя гостей, чаще всего неизвестных ему людей, жаждавших прикоснуться то ли к его мифу, то ли к его славе? Почему не вывесил на воротах Ясной Поляны табличку – «Просьба не беспокоить визитами!» – как это сделал позднее в своей Монтаньоле Герман Гессе, или не замкнулся совсем, как Сэлинджер? Причина, конечно, есть. Эпоха Толстого еще верила в продуктивность общения. К тому же Толстой уже не был чистым художником, когда открылся для визитеров; будучи графом, он ощущал себя не только членом крестьянской общины, но и Божьим странником внутри самостроительства. Следовательно, его время точно так же принадлежало другим, как он сам не был себе принадлежен. Гессе охранял покой своей художественной продуктивной гениальности, благоговея перед актом творчества. Сэлинджер заслонялся от пошлости журналистской и всякой иной «любознательности» и от пустых трений с насквозь «фельетонным» миром. Для позднего Толстого каждый человек был вариацией его самого, то есть в сущности им самим.
6
Существует миф о резких скачках во внутреннем пути Толстого. Однако Толстой – естественно и цельно растущий организм, не нуждавшийся ни в каких, извне приходящих «искусителях». Весь поздний Толстой легко вычитывается из самых первых его произведений, из «Казаков» например, где сакральность гор, и сакральность эроса, и великая наивность перед Тайной звучат доминантой безукоризненного Вслушивания. Абсолютно верно уловил эту цельность толстовского целомудрия И.Б. Мардов, заметивший, что «все последние тридцать лет жизни Толстой жил на вершине нравственного вдохновения». Вот источник, из которого он жил. Вот почему ему не нужно было ждать вдохновения как вести или дара: сама природа этого духа естественно/сверхъестественно близка. Рильке же ощущает себя ничем и никем вне властной силы Одиночества, вне этой властной, внеположной силы, которая по только ей одной понятной прихоти берет художника и бросает его как копье в цель, художнику тоже неведомую (образ из «Завещания»). Чувство пустоты и тщеты переполняет художника, покуда эта сила не «возьмет» его. Матрица вполне традиционная. Не то у Толстого. И.Б. Мардов: «Толстой держал свой гений на коротком поводке. Гений в Толстом словно попал в плен. Он относился к своему гению как к работнику, даже как к слуге. Правда, иногда он отпускал поводки, давал гению волю, на время отпускал его на свободу и сам поддавался ему, иногда блаженствовал вместе с ним, но никогда не становился обслугой гения, не делал его господином над собой. Так было во все периоды его жизни, не только после духовного перелома, в последние 30 лет жизни. Гений Льва Толстого всегда служил не “Льву Толстому”, а тому, кого Лев Николаевич называл Богом в себе, “Богом своим”, своим духовным Я – служил даже тогда, когда Лев Николаевич отчетливо не осознавал в себе это независимо от гения и параллельно ему существующее духовное начало. Толстой никогда не придавал своему гению статуса высшего духовного начала. Гений человека для Толстого не “из того же источника” (вспомним предсмертные слова Тургенева к нему), из которого духовное начало в человеке».41 Мардов верно подмечает, что и собственно мистические откровения Толстого шли из этого же самого источника – нравственного (я бы назвал его дхармическим) кратера. Главная идея Толстого – идея духовных родов: человек должен родить из себя «новое духовное существо», то есть дать главенство в себе «высшей душе». Потому-то для него «есть аристократия не ума, но нравственности. Такие аристократы – те, для которых нравственные требования составляют мотив поступков».
7
Распространенное недоразумение, которому Рильке тоже оказался отчасти причастен, – пресловутый толстовский страх смерти. Толстой был всегда предельно внимателен в феномену смерти (подобно Рильке или Паскалю), жил всегда накануне смерти. Но разве это страх? Тот, кто боится смерти, не только не заговаривает о ней, но делает вид, что и теней от нее не замечает. Толстой же непрерывно ссылался на смерть, подобно отцам-пустынникам, требуя к ней внимания. И разве же она не оказалась тем существом, которое, когда он стал жить в ее близи и смотреть в нее внимательно, преобразило его? («Смерть Ивана Ильича»). Сам же Рильке спустя годы, в 1915 году писал Лотте Хёпнер: «Есть у него одна повесть, называется Смерть Ивана Ильича; именно в тот вечер, когда пришло Ваше письмо, я почувствовал сильное желание перечитать эти необыкновенные страницы. Что и сделал, и поскольку думал тогда о Вас, то словно бы читал их Вам вслух. Рассказ этот находится в седьмом томе Собрания сочинений, изданного Ойгеном Дидерихсом, вместе с Ходите в свете, пока есть свет и Хозяином и работником. Сможете ли достать эту книгу? Желаю, чтобы многое из Толстого оказалось доступным Вам: два тома Стадий жизни, Казаки, Поликушка, Холстомер, Три смерти. Его чрезвычайное по мощи чувствование природы (не знаю никого, кто столь же страстно погружался бы в нее) поразительным образом дало ему возможность мыслить и писать изнутри Целого, изнутри жизненного чувства, настолько просквоженного тонкораспыленной смертью, что оно казалось повсюду ее содержащим, словно это своего рода вкусовая приправа в мощном жизненном вкусе; но именно поэтому и смог этот человек так глубоко, так отчаянно испугаться, когда обнаружил, что где-то есть чистая, беспримесная смерть, фляга, полная смерти, или та ужасная чашка с отбитой ручкой и бессмысленной надписью “Вера Любовь Надежда”,из которой некто был вынужден испить всю горечь неразбавленной смерти.42 Этот человек наблюдал и в других многоразличные виды страха смерти, ибо благодаря природному самообладанию ему было дано стать наблюдателем и своего собственного страха тоже, и его отношение к смерти вплоть до конца было величественным, проникновенным страхом, своего рода фугой страха, громадным зданием, башней-из-страха с переходами, лестницами, с выступами, не имеющими перил, и обрывами во все стороны. И лишь когда сила, с которой он все еще претерпевал неотвергаемый свой страх, в последнее мгновение (кто знает об этом) превратилась в недоступную реальность, внезапно явились надежнейшее основание, ландшафт и небо этой башни, а вокруг нее – ветер и птичьи полеты…»
Здесь, как видим, эссенциальность толстовского органического чувствования смерти схвачена Рильке безупречно, и финал хорош, вот только он не соответствует реальному позднему Толстому, для которого все эти художественные обертона игросмертья никогда не имели смысла. Ибо он был аристократ и мужик в одновременности плюс прирожденный духоискатель.
В 1893 году Толстой говорил по поводу смерти любимого брата Николая: «Эта смерть и всё связанное с ней осталось одним из лучших воспоминаний моей жизни…» Вот это уж никак не укладывается в схему Рильке. Лучшее не значит приятное. Лучшее значит благое для души и духа. В Яснополянском кабинете Толстой держал перед собой бюст Николая Николаевича. «Ничто не делало на меня такого впечатления…» Ужас от сознания ничтожества физической формы и оболочки. «Скоро месяц, что Николенька умер. Страшно оторвало меня от жизни это событие. Опять вопрос: зачем? Уже недолго до отправления туда. Куда? Никуда…» Толстой писал дневники без оглядки на потомков. Он всё писал без оглядки на потомков. Но разве Рильке не столь же внимательно всматривался в уход близких людей? Да, но не до такой физиологической потрясенности заглядыванием в Никуда.
После смерти семилетнего сына Ванечки: «Да, жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я». Это и есть, по Толстому, жить в истине-естине.
«Жизнь, которую я осознаю, есть прохождение духовной неограниченной (Божественной) сущности через ограниченное пределами вещество. Это верно». «Человек, дух, сын Божий, брат всех существ, призван служить всем существам, Всему, Богу. Как хорошо!»
Толстой не ставил вопроса, кто создал этот мир. Но он констатировал, что начало мира ему открывается и может открываться только как любовь – притом в том же универсальном, однако не бесформенно-абстрактном, смысле, что и у Рильке-Мальте.
8
Рильке упрекает Толстого в том, что тот будто бы не следовал императивам на чистое творчество, которые шли от его дальней родственницы, а на самом деле самого душевно близкого человека – Татьяны Александровны Ергольской. Назвав ее великой любящей, Рильке тем самым очертил ее кругом благоговения. Великая любящая уже в силу своего статуса всегда для Рильке права. Что же было на самом деле? Действительно, с ранней юности Татьяна Александровна, на год младшая отца Толстого, Николая Ильича, была для писателя идеалом женственности и женщины. «Тетенька Татьяна Александровна – удивительная женщина. Вот любовь, которая выдержит всё». (Почти цитата из ап. Павла). Толстой не раз называл ее святой. История ее трогательных отношений с Львом Толстым восходит ко времени, когда в юности она и отец будущего Лёвиньки полюбили друг друга, собираясь повенчаться. Однако война 1812–1814 гг. и иные обстоятельства разрушили эту связь. «Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, – писал Толстой, – но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери». После смерти жены Николай Ильич сделал Татьяне предложение, но она «не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. В ее бумагах, в бисерном портфельчике, лежит следующая, написанная в 1836 году, 6 лет после смерти моей матери, записка: “16 августа 1836. Николай сделал мне сегодня странное предложение – выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещала исполнить, покуда я буду жива”. Так она записала, но никогда ни нам, никому не говорила об этом. После смерти отца она исполнила второе его желание… Она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место. И мы чувствовали это. И у меня бывали вспышки восторженно умиленной любви к ней…»
На самом деле здесь была история длительной, всё углубляющейся любви юноши, а затем мужчины. Я бы сказал, Толстой прошел здесь школу любви в ее истинном, освобожденном от эротики русле. 15 декабря 1851: «О Вас я думаю день и ночь и люблю Вас сильнее, чем сын может любить мать…» Здесь, быть может, и лежит разгадка полносоставности души Толстого. Ведь подозревал же Рильке, что опыты полноценной любви к женщине не удаются ему именно потому, что он не любил и не любит собственную мать. Толстой, умиленно любивший образ матери, которую он потерял двухлетним малюткой, мог бы вполне этой абстрактно-бездеятельной умиленностью пробавляться. Однако он нашел своего рода замену матери для воплощения деятельного чувства, вырвав его из тенет чистой сентиментальности.
6 января 1852: «Хороший мой поступок меня радует потому, что я знаю, что Вы были бы мной довольны. Когда я поступаю дурно, я, главным образом, боюсь Вашего огорчения. Ваша любовь для меня всё…» 12 января: «Почему это я плачу, когда думаю о Вас? Это слезы счастья, я счастлив тем, что умею Вас любить…»
Татьяна Александровна отвечала ему синхронно нежно, но писем этих не отправляла; они остались в ее архиве. Отправляемые же письма были гораздо более сдержанны, то есть педагогически точны.
Толстой о ее смерти: «Умирала она тихо, постепенно засыпая, и умерла, как хотела, не в той комнате, где жила, чтобы не испортить ее для нас. Умирала она, почти никого не узнавая. Меня же она узнавала всегда, улыбалась, просияла, как электрическая лампочка, когда нажимаешь кнопку, и иногда шевелила губами, стараясь произнести Nikolas, перед смертью уже совсем нераздельно соединив меня с тем, кого она любила всю жизнь».
Для Рильке она великая любящая именно тем, что любила отца Толстого безответно, спиритуалистически, насыщая свое чувство абстрактной страстью нереализованного либидо. Для Толстого она – любящая реальных людей и любящая так деятельно, насколько ей это позволили материальные возможности. Вновь спрашиваю: кто же из них двоих в этом любовном союзе более великий любящий, особенно если положить на весы любовную пятидесятилетнюю безответность другой любви Толстого? Едва ли здесь уместно предпочтение.
9
История не-встречи Рильке и автора «Трех смертей» лишний раз показывает неимоверную сложность для современного эстетизированного и плебеизированного сознания, в котором идея непрерывного странничества и потребления впечатлений стала доминантной, понять мир позднего Толстого. Не подлинная ли ирония истории: бродяжничество «духовного аристократа» Рильке, бывшее в его время уникальным и нравственно рисковым, сегодня подвергнуто чудовищному тиражированию, где, скажем, та же демонстрация «древнейших человеческих жестов» превратилась в весьма успешный бизнес, где семья попросту отмерла, став то ли реликтом, то ли фиговым листком, так что ни о каком Herzwerk никто уже даже и не заговаривает: настолько это всё бессмысленно в мире, где свобода эротического влечения, за которую ратовал, рискуя своей репутацией, Рильке, стала настолько пропагандируемой, что превратилась в промискуитет и в массовый, без берегов, разврат, молчаливо благословленный христианской церковью.
10
Любопытно сравнить предполагавшийся эпилог романа о Мальте с живыми впечатлениями Рильке от поездки в Ясную Поляну 19 мая 1900 года. Вот что, например, писал он 20 мая Софье Шиль, своей московской знакомой: «Мы (Рильке имеет в виду себя и Лу Саломе. – Н.Б.) вернулись до Ясинок, наняли там экипаж и под неумолчный звон колокольчиков домчались до края холма, где стояли бедные избы Ясной, согнанные в одну деревню, но без всякой меж собою связи, словно стадо, печально замершее на уже истощившемся и выбитом пастбище. Группки из женщин и детей – лишь красные, солнечные пятна на монотонно сером фоне, покрывающем землю, крыши и стены подобно некоему роскошному моху, которым все проросло за многие столетия. Дальше спускается вниз едва различимая, текущая лишь посреди пустырей улица, и ее серый шлейф нежно вливается в зеленую, пенящуюся верхушками деревьев долину, слева от которой две круглые с зелеными куполами башенки обозначают вход в старый, одичавший парк, где затаился простой яснополянский дом. Возле этих ворот мы выходим и тихо, словно пилигримы, идем вверх по дороге между деревьев, и постепенно дом открывается нам своей белизной и своим истинным размером. Слуга уносит наши визитки. И вскоре позади двери в полумраке мы замечаем фигуру графа. Стеклянную дверь открывает старший сын, и вот мы стоим в передней напротив графа, напротив старца, к которому приходишь как сын, даже если и не желаешь пребывать под властью его отцовства. Кажется, будто стал он меньше, сгорбленнее, седее, и – словно бы независимо от этого старого тела – незнакомца ждут необыкновенно ясные глаза, и не скрывая испытуют, и непроизвольно благословляют его каким-то невыразимым благословлением…» А потом, словно неожиданный подарок, прогулка по парку.
«Мы медленно идем по узкой, тенистой, уходящей вдаль аллее, ведя интереснейший разговор, и, как и в прошлый раз, встречаем у графа самое теплое участие. Он говорит по-русски, и, если ветер не уносит от меня некоторых слов, я понимаю абсолютно всё. Его левая рука охватывает ремень под шерстяной кофтой, правая покоится на основании палки, на которую он почти не опирается; время от времени он наклоняется и, словно бы стремясь ухватить цветок за овевающий его аромат, срывает цветы вместе с травой, пьет из горсти аромат, а потом за разговором даже не замечает, как, позабытые, они падают вниз в многообразное изобилие первозданной весны, отнюдь не становящееся от этого беднее.
Разговор касается многих вещей. Однако слова при этом движутся не спереди, не вдоль фасада вещей, но словно бы прячутся во мраке за ними. И глубокая ценность каждого слова заключена не в его цвете при свете дня, но в ощущении, что оно приходит из той темноты и тайны, из которой мы все живем. И каждый раз, когда в мелодии разговора становилось очевидным наше неединодушие, тотчас открывался горизонт и обнаруживался задний план, светящийся глубоким единством и согласием… Иногда на ветру фигура графа вырастала; большая борода развевалась, однако серьезное, прочерченное одиночеством лицо оставалось спокойным, совсем не затронутым порывом ветра…»


