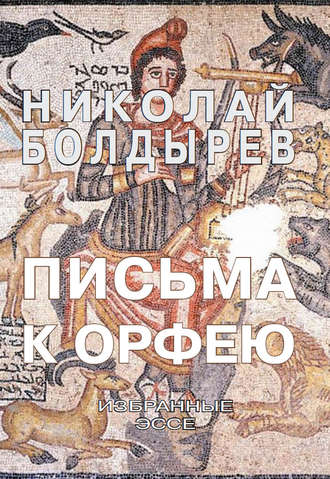
Николай Болдырев
Письма к Орфею. Избранные эссе
«Вторично и самостоятельно после Египта я открыл значение, смысл, небеса, «поемость» и воспеваемость мужского полового органа. Открытие это не только подобно и равно открытию небес, Бога, но и превосходит это – как большее собою превосходит меньшее собою…»
«Именно “фаллизм солнца” и был тою “луковицею Египта”, которую они открыли, стерев последний “покров”. Сияние “солнца”“фалла” и было, собственно, главною темою и главною разгадкою Египта».
Увиденная из глубин розановского онтологизма, где слово не есть отчужденная от реального космического процесса метафора, но обладает исконным зарядом «семянных» импульсов-пульсаций, совершенно по-иному начинает звучать привычная фраза: «Пушкин – солнце русской поэзии». А именно: «Пушкин – фалл русской поэзии». И чуть ли не «эзотерически» начинают восприниматься хрестоматийно прозрачные строки: «Мороз и солнце – день чудесный…» Т. е. день, полный чудес, где главное чудо – блаженство прикосновения к бытийствованию самому по себе. И далее: «Пора, красавица, проснись…» Встает солнце-фалл подобно тому, как в поэзии встает фаллическое слово Пушкина, изливающее неустанно свою таинственно неисчерпаемую семянность. И пушкинское ощущение святости солнца в «Вакхической песне»: «Ты, солнце святое, гори!..» – вслед за вакхическими зовами и здравицами «нежным девам» и «юным женам, любившим нас».
В «Апокалипсисе нашего времени» у Розанова есть фрагмент, называющийся – «Содом». «Да что такое Содом? Это и есть эхо Пушкина:
Поет ли дева за холмом,
Ревет ли зверь в лесу глухом…
На ВСЕ – родишь ты отклик.
“Содом” есть “брак со всеми” до “нет брака”. Разлиянность на детей. Универсальность любви… Замирай, обмирай, дрожжай. “Содом”, “Sol”, “Солнце”… Я одно и царственно: а ОКОЛО меня – все. Да: но именно Все и во всех-то упор, вершина и завершение». Розанов пересказывает стихотворение Пушкина «Эхо», которое, напомню, звучит так:
Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
Ты внемлешь грохоту громов
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва… таков
И ты, поэт!
Поэт у Пушкина (по Розанову) – всеоткликающийся именно вследствие того, что его сущность солнечно-фаллична. Поэт-эхо готов коснуться солнцем-фаллом чего угодно, проникнуть во что угодно. «Да здравствует солнце, да скроется тьма!..» И это происходит «в воздухе пустом», то есть в чистой бессодержательности бытийствования, в том его модусе, где нет провокационных интеллектуалистических по своей сути дефиниций и противопоставлений25. Пушкин «бессодержательно» касается всего, воссоздавая сам темпоритм и саму «сакральную» модальность вхождения фалла в конкретную иньскую тьму. Дрожь вбрасывания семени (солнечных лучей) во влагу земнородного вещества и есть тайная вибрация пушкинского слова, свидетельствующая его аутентичность. Своего рода исходность его африканского происхождения. Египетско-еврейские (ветхозаветные) корни его слова, его (слова) наикратчайших корреляций.
Слабая избирательность пушкинского эроса («универсальность любви» по Розанову) общеизвестна. Эрос здесь был подобен его эху: предметы внимания были отражением импульсов его сердца. А сердце имело свойство любить, не останавливаясь.
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит оттого,
Что не любить оно не может.
Причина неизбирательности пушкинского эроса подобна сути не-избирательности эроса солнечного: и тот и другой – «не могут не любить». Идеал Пушкина, как пишет Розанов, «дрожал на каждом листочке Божьего творения» – подобно солнечным лучам, кои тоже не знают морального пафоса.
Сознание Пушкина, словно чистое зеркало, отражает – в этом оно подобно эху: оно не наполняется «предметами», идеями, мыслями, впечатлениями (не становится в этом смысле захламленным), а всего лишь отражает их, давая им возможность свободно скользить, проходить, само оставаясь неизменно пустым и в этом смысле чистым, свободным от предпочтений и привязанностей. Если сознание наполняется чем-то, что уже навсегда в нем поселяется, то тогда оно не может эффективно и чисто отражать – оно замыкается на обладании и далее – на тщеславии обладания.
Но так же отражательно действует и сознание Розанова, фиксирующее мысли, которые свободно приходят и свободно уходят, отражаясь в сознании, но не поселяясь в нем. Есть нечто в сознаниях Розанова и Пушкина, что остается неизменным, безучастным к приходящим и уходящим мыслям и впечатлениям. В глубинах этих сознаний – отрешенный покой, некая «трансцендентная» тайна, что и дает возможность этому типу сознания быть музыкально страстным в приятии и отпускании мыслей и впечатлений.
В «Сахарне» Розанов писал о юношеских своих экстатических состояниях, когда вместе с приходившей из ниоткуда музыкой являлись слова «и в слова “откуда-то” входила мысль, мысли, бесчисленный их рой, “тут” же родившийся, рождавшийся, прилетавший, умиравший или, вернее (как птицы), исчезавший в небе: п. ч. через час я не мог вспомнить ни мыслей, ни формы <…> Это и образовало “постоянное писание”…»
Или в другом месте: «… Я весь – дух и весь – субъект… Я наименее рожденный человек: как бы еще лежу в утробе матери и слушаю райские напевы…». Это самая настоящая формула отрешенности, фиксация того своего внутреннего центра, где покоится изначальное человеческое сознание, являющееся с точки зрения дзэнских мастеров, по своей природе именно-таки «нерожденным». Это, быть может, и есть та потенциально бессмертная основа нашего сознания, что при определенных условиях способна к трансценденции.
Отрешенность Розанова коррелятивна «покою и воле» Пушкина – тайному внутреннему прибежищу поэта. Способность к чистому, не избирательному, не делящему мир на то и это, отражению есть, по Розанову, высшая степень страстности – ее непрерывность (экстаз внимания к миру), полнота к нему внимания при таинственной глубинной отрешенности.
8
Розанов объединяет Содом, солнце и эхо Пушкина. Солнце, по Розанову, будучи живым и сознающим существом, откликается на импульсы живого, и в этом смысле оно эхо – оно выбрасывает в ответ «семя» солнечных лучей. Солнечный фалл – в постоянной эрекции и, соответственно, солнце – в постоянном оргазме. Как бы независимо от этого Розанов догадывается, что солнце «не во времени», оно – в «вечном ЕСТЬ». А это значит – солнце медитирует, ибо суть медитации – выход за пределы временности, за пределы ума, в простор чистого (трансцендентного) сознания-духа. В этом смысле солнце есть дух. Но оргазм, как известно, и есть опыт медитации, опыт выхода из времени, из социумного измерения «ума» – в чистую осознанность, в соприкосновение с теми эманациями духа, которые дышат на острие чувственной благоговейности.
Таким образом, пушкинская энергетика, сближаемая с солнечным фаллизмом, тайно родственна экстатике непрерывного оргазма – когда время и временность аннигилируются и человек приближается к ощущению «корня» сознания. Такого рода эманационное качество пушкинского слова мы и ощущаем, вероятно, как особое качество его «семянности». Здесь корень и особого фермента пушкинской созерцательности: «бессодержательности», внеидеологичности и внеморальности.
Само собой разумеется, оргазм я не рассматриваю здесь как явление сугубо физиологическое. Эротическая энергия реализует себя в многообразных формах; и, соответственно, медитация как аналог оргазма может осуществлять себя на любых творческих уровнях.
Сущность Пушкина – в совершенно определенном луче света, который он собой представляет. Особенность этого луча, этого сознания – оно не нацелено на интеллектуальное обладание, оно не обременено тоской по истине, ибо истина давалась ему вся сразу, в этот момент – как реальность фактической наличности самой «текстуры» бытийности. Суть Пушкина – простая трансляция своей светимости, так что истина – вот она, но интеллектуально ее взять никак нельзя.
Что есть священное для Пушкина? Все. Ничто. Потому что свет сознания является для него фаллом – «страстно» касающимся всего. Какая женщина прекрасна? Любая. Та, которая сейчас в центре внимания. Пушкин рассматривает обыденное как священное, как «последнюю» реальность. Однако это священное священно не потому, что есть, существует несвященное. Поэтому для него было делом обыденным высмеивать так называемое священное и возводить в статус священного обыденное: «Мороз и солнце – день чудесный!..» Менять полюса. Иронизировать над «священными» предметами христианства в отрочестве и юности, сама закостенелая устойчивость «священства» которых (предметов), закрепощает, а не освобождает сознание. Священно отнюдь не то, что названо священным. Ничто не священно, все священно. Таковы перепады Пушкина в направлении абсолютной свободы спонтанного луча. Священным для Пушкина становится простое обыкновенное человеческое лицо – Гринев. И сказка о старике, старухе и синем море – это рассказ о том, что на самом деле ничего лучше разбитого корыта нет: ибо подлинная реальность – это сознание человека (старухи), и если это сознание изначально бедствует, если оно разорвано делением на то и это, если оно несчастно, если оно недовольно тем, что есть, то никакие «революционные» изменения не помогут. Пушкин на стороне старика, блаженно созерцающего море, сети и разбитое корыто. Потому-то в известном споре о России он был не на стороне Чаадаева: нет, принимаю Россию такой, какова она есть! Потому что вообще такова природа любви. Той любви, что никогда не противостоит ненависти.
Можно сказать и иначе: интеллектуальный дискурс по некой корневой своей сути циничен, в то время как поэтический импульс – целомудрен, т. е. целостен, не расколот, целокупен, прост, простодушен.
9
Все цветение слόва Пушкина связано с «ветхозаветно-языческой» стадией его «солнцестояния». Однако сам Розанов амбивалентен в отношении к Пушкину, порой он словно бы не ощущал «фаллической» религиозности Пушкина, словно бы забывал о ней, пеняя ему на его внехристианский тон. Так однажды он писал, что Пушкин был, увы, не религиозен и лишь с женитьбой начался поворот, принесший новые дивные напевы: «Отцы-пустынники и жены непорочны…»
Однако на самом деле пушкинская муза именно в это время претерпевала смертельный кризис. Наступил кризис именно-таки «фаллично-солнечного» начала, и, защищая свой фалл, его права, поэт пал, ибо находился в низинной точке кризиса, в сложнейшей фазе замешательства и перехода в неизвестность.
Возникает невольный вопрос: а существует ли критерий определения, чтό есть дух, каков его исток, откуда идет он – из глубин «семени» или из надмирного «инобытия», в принципе несоприкосновенного с плотью, с ее сутью? Однако какой критерий мы можем выдвинуть кроме чисто интуитивного предпочтения, уходящего в тайны индивидуальной мифологии? Розанов подробно рассказал, как медленно, но неотвратимо двигался от “самоочевидных” интеллектуальных “истин”, вписанных в христианскую мифологию, ко все большему и большему доверию своему изначальному, “первичному” мифу, в котором он “вплывал” в мир. Этот “миф” – те “младенческие” архетипы, те интуиции, которые необъяснимо составляли сам метафизический эпицентр его индивидуальности, еще не закостеневшей в капсуле “личности”. Это чувство гигантской своей утаённости в потенциях, ощущение себя “утробным младенцем”, неким “нерожденным”, но чистым сознанием, обнаженно летящим между космосом “всепотенций” и ледяной цивилизационной матрицей, – прекрасно вписалось в позднейшее ощущение себя наедине с гигантской обнаженной Небесной женщиной, в чьих объятиях ему и надлежало пребывать до смертельной минуты.
Каков был индивидуальный эротический миф Пушкина? Вопрос этот хотя и важен, однако же гораздо важнее вопрос другой: каков наш собственный эротический миф – “исходно-младенческий”, до того, как мы плавно вписались в социальную глоссу? И далее – каков наш собственный миф сакральности, ибо без сакрального слова и без сакрального молчания едва ли в нас сможет когда-либо свершиться поэтический процесс как таковой.
Март-апрель 2003
Музыка из ниоткуда
1
«Люблю чай; люблю положить заплаточку на папиросу (где прорвано). Никогда не волнуюсь и никуда не спешу.
Такого «мирного жителя» дай Бог всякому государству. Грехи? Так ведь кто же без грехов.
Не понимаю. Гнев, пыл, комья грязи, другой раз булыжник. Просто целый “водоворот” около дремлющей у затонувшего бревна рыбки. И рыбка – ясная. И вода, и воздух. Чего им нужно?
(пук рецензий)».
Пассаж вполне типичный для Розанова. Пассаж одновременно и вполне даосский по духу и тону, и вполне обывательский. Однако обывателя, запершегося в своей норке и боящегося высунуть нос, нетрудно отличить от человека дао, абсолютно раскованно расположившегося под солнышком. Абсолютно доверчивого к движению стихий – вовне и внутри себя. Эта дремлющая у затонувшего бревна рыбка не просто дремлет, она необыкновенна чутка к тому струению, которое ее пронизывает. Эта рыбка моментально откликается на зовы струенья, и не потому, что она чего-то хочет или жадно ждет-ищет, нет, но потому, что сама суть этого струенья и есть Первоисточник, первоимпульс, первотворенье.
«Что пишу? Почему пишу? А “хочется”. Почему “хочется?” Господи, почему Ты хочешь, чтобы я писал? А разве без Твоего хотенья я написал бы хоть одну строку? Почему кипит кровь? Почему бежит в жилах? Почему сон? Господи, мы в Твоих руках, куда же нам деться?» Запись в «Сахарне» совершенно в духе какого-нибудь Майстера Экхарта. Представим себе, что все это не фразы, не фигуры речи, а истинная, «прозаически-документальная», психологически-протокольная реальность: «Господи, почему Ты хочешь, чтобы я писал?» Повеет почти жутью, как от библейских текстов, где невероятно (для нас нынешних) кратко расстояние от субъекта речи (Моисея, Авраама, Иова, Давида) до Бога, где они просто-напросто дышат другу другу в ухо. Действие и слово обретают ту фактичность, ту действительную космичность, которые сегодня уже не ощутимы, кажущеся-невозможны. Но что же для этого нужно? Что же нужно, чтобы, не блефуя, сказать: «Господи, почему Ты хочешь, чтобы я писал?» Быть может, нужна вера в это? Но что есть вера, как не ощущение прямого источника твоего импульса? Осязательного, как касание острым ножом кожи… Вера как полнота доверия.
Однако почему же целый «водоворот» возмущений и гнева возле дремлющей у затонувшего бревна рыбки? Во втором коробе «Опавших листьев»26 (что может быть естественнее, натуральнее опаданья?) есть прямо-таки блестящий пассаж, прямиком вводящий нас в парадоксалистскую «методику даоса».
«Именно, что я писал “во всех направлениях” (постоянно искренне, т. е. об одной тысячной истины в каждом мнении мысли) – было в высшей степени прекрасно как простое обозначение глубочайшего моего убеждения, что все это “вздор” и “никому не нужно”: правительству же (в душе моей) строжайше запрещено это слушать.
И еще одна хитрость или дальновидность – и, м. б., это лучше всего объяснит, что я сам считаю в себе притворством. Передам это шутя, как иногда люблю шутить в себе. Эта шутка, действительно, мелькала у меня в уме:
– Какое сходство между “Henri IV” и “Розановым”?
– Полное.
Henri IV в один день служил лютеранскую и католическую обедню и за обеими крестился и наклонял голову. Но Шлоссер, но Чернышевский, не говоря о Добчинском-Бокле, все “химики и естествоиспытатели”, все великие умы новой истории – согласно и без противоречий, дали хвалу Henri IV за то, что он принес в жертву устарелый религиозный интерес новому государственному интересу, тем самым, по Дрэперу, “перейдя из века Чувства в век Разума”. Ну, хорошо. Так все хвалили?
Вот и поклонитесь все “Розанову” за то, что он, так сказать, “расквасив» яйца разных курочек – гусиное, утиное, воробьиное – кадетское, черносотенное, революционное, – выпустил их “на одну сковородку”, чтобы нельзя было больше разобрать “правого” и “левого”, “черного” и “белого” – на том фоне, который по существу своему ложен и противен…И сделал это с восклицанием:
– Со мною Бог.
Никому бы это не удалось. Или удалось бы притворно и неудачно. “Удача” моя заключается в том, что я в самом деле не умею здесь различать “черного” и “белого”, но не по глупости или наивности, а что там, “где ангелы реют” – в самом деле, не видно, “что Гималаи, что Уральский хребет”, где “Каспийское” и “Черное море”…
Даль. Бесконечная даль. Я же сказал, что “весь ушел в мечту”. Пусть это – мечта, т.е. призрак, “нет”. Мне все равно. Я – вижу партии и не вижу их. Знаю, что – и ложны они и что – истинны. “Прокламации”.
“Век Разума” (мещанская добродетель) опять переходит в героический и святой “Век Порыва”; и как там на сгибе мелкий бес подсунул с насмешкой “Henri IV”, который цинично, ради короны себе, на “золотую свою головку” – надсмеялся над верами, где страдали суровый Лютер и великий Григорий I (папа), – так послал Бог в этот другой сгиб человека, сердце которого так во всем перегорело, ум так истончился («О понимании») в анализе, что для него “все политические истины перемешались и переплелись в ткань, о которой он вполне знает, что она провиденциально должна быть сожжена”».
Это какая-то маленькая даосская симфония! Дух захватывает от ментальных прыжков и “дзэнских” оплеух позитивистским ожиданиям радетелей определенности. И в этом стремительном вираже взаимоуничтожающихся мыслей – внезапное вхождение в экстаз жертвоприношения. Пройдемся вдоль текста.
«Писать во всех направленьях» («менять «убежденья» как перчатки») – прекрасно, во-первых, потому, что движение в любом из избранных направлений было искренним, как искренна любая мысль, сама тебя посетившая, и так же ушедшая, как и пришедшая – не спросясь. Но как это возможно, чтобы мысли сами приходили и уходили, циркулировали подобно природным процессам? Это возможно, когда их не контролируют, но просто наблюдают за ними, когда «отпускают ум на волю». Когда у «мыслителя» нет центрирующих «убеждений», мысли становятся таким же предметом созерцания как, скажем, облака. Впрочем, у автора есть-таки одно «глубочайшее убеждение», «что все это “вздор” и “никому не нужно”: правительству же (в душе моей) строжайше запрещено это слушать». То бишь искренне-то искренне, но что из того, всё равно – «вздор» и «никому не нужно», но – взято в кавычках: лишь в известном смысле вздор, скажем – не надо тащить все это в практику, лезть с советами в правительство, вообще изображать из этого политику и устраивать бои и сраженья на «фронте жизни». В этом смысле – все это вздор и не должно быть никому нужно. Все эти идейные направления – вздор. («Почему я думаю, что каждое мое слово есть истина?…» – в «Мимолетном» 1914 года. Но когда каждое слово – истина, тогда несомненно, что каждое слово в то же самое время и неистинно. Это чувство Розанов постоянно стремится высечь у читателя: слово и истинно, и неистинно одновременно!) Но в некотором другом смысле все это не «вздор» и вовсе не «никому не нужно». В каком?
Догадайся, читатель, сам. Почему нужно класть разжеванным в рот?
Сравнивая себя с Генрихом IV, Розанов запускает очередной иронический фейерверк, вводя фигуры Шлоссера, Чернышевского и Бокля в качестве «великих умов новой истории»27. Юмор в том, что эти «смешные» для Розанова фигуры исполняют в данном пассаже почти позитивную роль (происходит тонкая балансировка иронии, когда ирония и неирония, буффонада-хохот и абсолютная метафизическая серьезность буквально пронизывают друг друга, не давая возможности провести четкую разграничительную линию).
Мало того, что «яйца разных курочек» выпущены «на одну сковородку». Будь всего лишь так, Розанов оставался бы неким беспринципным ироником, допустим – циником, но не более. Да, на одну сковородку, но «на том фоне, который по существу своему ложен и противен…» Пожалуй что, тут челюсть у читателя отвисает. Какая-то бездна распахивается. Если фон этой сковородки по существу своему ложен, то какова же, черт возьми, цена этой яичнице из «искренних» яиц?
Да, но и этого напряжения черной бездны Розанову мало, и он бросает вдогонку внезапнейший факт: и я «сделал это с восклицанием: – Со мною Бог».
Это типично дзэнские прыжки из профанного в сакральное и назад, вводящие традиционно-линейную (не полифонную) мысль в шок, в смутьянское смущенье, в смуту, в смерть.
В том внутреннем измереньи, где дана свобода струенью, профанное и сакральное не являются антагонистичными. В линейной логике последующее отвергает предыдущее, в полифоническом движеньи «факты» выстраиваются иначе.
Розанов далее подчеркивает непритворность и непреднамеренность своего неумения различать «черное» и «белое». Причина же в том, что там, «где ангелы реют» – в самом деле не видно, «что Гималаи, что Уральский хребет, где Каспийское и где Черное море»… Да, «ангелы», конечно, существуют не в сфере нашей географии, это уж точно. Ангелы здесь – символ трансцендентального. Это и есть исток неразличения «черного» и «белого». И мимоходом, опять же, ирония, самоирония – «где ангелы реют»: Розанов с всклокоченными волосами и смятой в руках папироской в обществе ангелов – смешная сцена, смешная для самого Розанова, и он это прекрасно знает, когда так пишет, и знает, что это знает читатель. Однако в целом ему удается беспрецедентное: почти суггестивно внушить читателю (либо намекнуть между прочим), что «ангельские сферы» – это и абсолютно серьезно и абсолютно несерьезно одновременно.
«Даль. Бесконечная даль». Чисто поэтическая фиксация метафизического состояния. «Я же и сказал, что “весь ушел в мечту”». То есть в отрешенность. Это синонимы в мире Розанова. И вновь настойчивое объяснение той сути, что так непонятна его «идейным» противникам, вообще почти всем «серьезным мыслителям»: «я – вижу партии и не вижу их. Знаю, что – и ложны они, и что – истинны». Здесь можно представить и грезящее, бесконечно отрешенное сознание «ангела», и услышать хохот Чжуан-цзы.
В последнем абзаце Розанов осуществляет синтез иронии с серьезностью с новой силой, буффонадно-метафизически, в определенном смысле уравнивая «мелкого беса» с «Богом», а «насмешку над верами» со «страданиями сурового Лютера и великого Григория I».
Придание абсолютного статуса человеческим меркам, клишированным формулам человеческого ума – глупость. Священное не есть то, что намертво закреплено и может быть всегда использовано как эталон веса или длины. Подлинно священное – неуловимо. Подлинное – в подлинном человеке, а не в том, какие именно мысли он изрекает. «Религиозный человек предшествует всякой религии» («Уединенное»).
В даосско-дзэнских древних текстах мы находим совершенно аналогичные блестящие ментальные молнии: «Когда искренний (настоящий) человек проповедует ложное учение, оно становится правильным, истинным. И наоборот». («Мумонкан»). Розанов, несомненно, двумя руками подписался бы под этим афоризмом дзэнского мастера Дзëсю, жившего в девятом веке. Афоризм тончайший и притом помогающий войти в святая святых «религии Розанова». «Религиозный человек», о котором говорит Розанов, отнюдь не тот, у кого в голове «религиозные взгляды», а в сердце «религиозные убеждения». Религиозный человек, homo religiosus, – есть нечто изначальное, являющееся ранее обработки его обществом, это существо, вкусившее с древа жизни, но не с древа познания. Религиозный человек не имеет религиозных взглядов, во всяком случае они не владеют им. Религиозный человек просто-напросто живет религиозно, то есть в естественно-дыхательной связи с Целым28. Его молитва – сам ритм его дыхания. Подобно тому, как подлинный человек у Чжуан-цзы дышит не горлом, а «пятками», то есть всем телом – как младенец в утробе матери или как новорожденный. Представить Розанова дышащего пятками – стилистически вполне уместная метафора.
И вот финал комментируемого пассажа. Образ «ушедшего в мечту» человека обретает новые парадоксально-напряженные обертоны: это человек, «сердце которого так во всем перегорело, ум так истончился (книга “О понимании”) в анализе», что для него «все политические истины перемешались и переплелись в ткань, о которой он вполне знает, что она провиденциально должна быть сожжена». Провиденциально!
Сердце – перегоревшее, это и есть сердце даоса: страстно-чуткое и в то же время созерцающе-бесстрастное, живое и мертвое одновременно, а «истончившийся в анализах ум» – смолк в своих тщеславных притязаниях и лишь созерцающе фиксирует свое струенье – вполне бесцельное, но именно благодаря этому вполне «нетленное». И вот «ткань» политических истин, которая – «провиденциально должна быть сожжена». Браво! Сколько иронии, буффонады, блеска в этом стремительном движеньи, завершившемся внезапным заревом пожара, вполне художественно естественном, поскольку на всем протяжении полутора страниц громыхали грозы парадоксов и ментальных электрических замыканий.
2
На что же направлено главное внимание розановских «мимолетностей»? На «мысли, мир, Космос. Ибо любовь моя, “роман” мой – с Космосом. Я точно слышу, как шумят миры. Вечно. Звезды слушаю. Цветы нюхаю. Особенно люблю нюхать серые, с земли взятые грибы. Мох. Кору дерева. Все это ужасно люблю нюхать. Вообще у меня мышление обонятельное29 <…> Ну вот. Чем же я виноват?…»
И далее любопытная полемика с Флоренским и Перцовым, критиковавшими Розанова за тон и стиль второго короба «Опавших листьев» (на мой взгляд – как раз более сильного, чем первый). Флоренский и другие учили Розанова «сдержанности» и прочим «добродетелям» – «ради своей же пользы» и «благоприятного впечатления на публику». Однако Розанову, архетипическому даосу, важно одно-единственное: ни в коем случае не сдерживаться, но давать полноту движенья своему ментальному потоку, ибо правит этим «законом» музыка – как камертон струенья.
Розанов не раз откровенно давал понять, что жанр его «Опавших листьев» вполне физиологичен, растительно-природен, что и подчеркнуто в названии. Никакой погони за «поэтичностью» и потому – никакого отбора: то, что написалось (опало) за год – то и помещено, автор дает читателю некий «психически-природный» факт, а отнюдь не факт «искусства».
«Флоренский и Перцов говорят: “Не нужно больше так писать. Не хорошо”. То же Волжский и Кожевников. Все – авторитеты для меня. Я сжался. “В самом деле не хорошо”. Но в конце концов почему же “не хорошо”. Почему “Пью за здравие Мэри” хорошо, а “как я ненавижу социалистишек” – не хорошо? “Это нервы, раздражение” (Флор.). Но если я “раздражаюсь”, то почему я должен иметь вид спокойного?<…> Фл. пишет: “Вы должны быть спокойны’ Но если я не спокоен? “Скрывайте”. Но почему я должен скрывать?..»
Здесь замечательно это типичное «Вы должны быть спокойны!» Призыв к самопринуждению, к дисциплине, к постоянному контролю и зажиму своей психической жизни, призыв к неустанной борьбе со своей спонтанностью, то есть весь комплекс идей, прямо и диаметрально противостоящих розановскому отвращению ко всякому насилию над «самочинно-произвольным» истеченьем психического и ментального вещества. Спокойствие Розанова – это та умиротворенность, которая есть результат «женственного», «безвольного» отпусканья в естественный полет всяких, неизвестно как и откуда рождающихся и вспархивающих «бабочек» мысли, чувствований, ощущений, догадок, предчувствий, порывов – в том числе и бурных, и страстных: всяких, без изъятий, без цензуры. «Но если Он дал мне предназначение к вечным говорам (в душе), то я и должен вечно говорить». Как ручей – течь. «Зачем я буду запирать зов в груди, когда зов кружится».
Мы, к сожалению, весьма не склонны наблюдать за собой и друг за другом, как за некими архетипически сориентированными ментальными организмами. Чаще всего мы надеваем на себя и друг на друга мундир по тематике наших разговоров и мыслей, и тем самым сбрасываем общение в парадигму линейного суммирования (вычитания, умножения, деления) суждений и мнений. Тем самым мироощущения навязчиво определяются через линейное информационное поле, а не через понимание метода и методики «работы с информацией».
Разумеется, архетипический даос – натура женственная, «безвольная» (сотни свидетельств Розанова об этом), «бесхарактерная», ибо она податлива, пластична, гибка, тонка, откликаема, но и мощна, как ток воды. Потому-то: «Никакого интереса к реализации себя, отсутствие всякой внешней энергии, “воли к бытию”. Я – самый не реализующийся человек». («Уединенное»). «Не реализующийся» – в западном смысле, где навязчиво довлеет императив «реализуй себя!» в смысле «пробей себе дорогу» вплоть до применения кулаков и когтей, «собери волю в кулак» и «заяви о себе как о личности», «преодолей в себе слабости». С помощью императива «ты должен!».
Но Розанов в этом смысле принципиально никому ничего не должен, и его душенька гуляет на свободе где и когда и с кем ей хочется. Потому он и пребывает «вне нравственности». Подобно Ле-цзы.
«Я пролетал около тем, но не летел на темы. Самый полет – вот моя жизнь. Темы – “как во сне”. Одна, другая…много… и все забыл. Забуду к могиле. На том свете буду без тем. Бог меня спросит:
– Что же ты сделал?
– Ничего». («Опавшие листья»).
Но ведь Розанов отнюдь не боится, что Бог рассердится на него или тем более накажет за это «ничего». Отнюдь. Розанов абсолютно уверен, что Бог его поймет. Более того:
«Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков…
– Ну? Ну?.. Хх…
– Это – что частная жизнь выше всего.
– Хе-хе-хе!.. Ха-ха-ха!..Ха-ха!..
– Да, да! Никто этого не говорил; я – первый30… Просто, сидеть дома и хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца.
– Ха, ха, ха…
– Ей-ей: это – общее религии… Все религии пройдут, а это останется: просто – сидеть на стуле и смотреть вдаль».
Гротесково-обывательское смыкается с ноуменально-священным. Вырвавшийся из плена социальных «обязательств», человек становится «чистым», то есть священным животным.
«Ковырять в носу и смотреть на закат солнца» – что это? Так ли уж это смешно? Поза полного самозабытья, состояние забвения своего маленького суетливо-тщеславного «я», растворенность в объекте созерцания и притом – каком! И что значит «просто – сидеть на стуле и смотреть вдаль»? Может ли это быть «религией»? А почему нет? Быть отрешенным – разве это не “религия”?
Забавно, что ссылку на этот знаменитый розановский фрагмент я как-то нашел, листая книгу о Чжуан-цзы нашего именитого синолога В. Малявина: «Чжуан-цзы нарочито отвергает всякое умствование. Он советует «”праздно гулять среди беспредельной шири”». Звучит как у Розанова: «ковырять в носу и смотреть вдаль». Именно так: «”волочить свой хвост по грязи” и “воспарять за облака”, быть другом Земли и Неба, быть в себе вне себя. Эти крайности уживаются в Чжуан-цзы органически, не стесняя, а, наоборот, высвобождая друг друга. И все речи даосского философа – призыв к людям высвободить себя для жизни».


