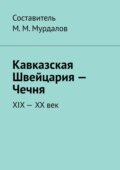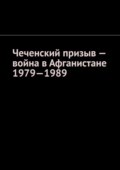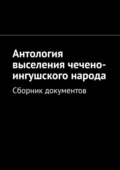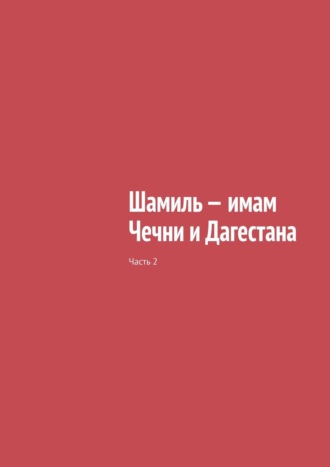
Муслим Махмедгириевич Мурдалов
Шамиль – имам Чечни и Дагестана. Часть 2
Мусульманские предания говорят, что вода Зем-Зем исходит прямо из рая. Она имеет такое свойство, что одно из желаний пилигрима, выраженное в ту минуту, когда он пьет ее, – будет исполнено непременно, как бы нелепо и неумеренно оно не было. Запуганные мучениями загробной жизни и хорошо знакомые с томящим зноем своих стран и с жаждой, которую он возбуждает, мусульманские пилигримы просят в эту счастливую минуту только одного: не чувствовать жажды в продолжение всей будущей жизни. Был один пример, что какой-то бедняк пожелал богатства, и он сделался таким богачом, каких свет не видал. Предания рассказывают о другом мусульманине, который, возвратившись каким-то случаем из царства мертвых на землю, подтвердил своими словами справедливость сказания о чудодейной силе Зем-Зема.
Что касается Каабы, то она была воздвигнута Авраамом уже тогда, когда Исмаил сделался взрослым человеком. Раскапывая однажды по близости своего жилища землю, он открыл построенный ангелами фундамент, вместе с большим количеством нужного для здания камня. К этому же времени Авраам получил новое откровение, вследствие чего тотчас же явился в Мекку и занялся постройкою Каабы при помощи Исмаила, подававшего ему камни.
Построенная руками Авраама, Кааба существовала долгое время, пользуясь уважением потомков этого пророка, называвших ее «Божьим домом». Наконец, вследствие «какого-то» наводнения, она не только утратила прежний вид свой, – но даже память людей не удержала и места ее нахождения, и уже впоследствии она была открыта пророком Магометом по следующему случаю:
В первое время своего знаменитого поприща, когда слух о нем ходил в пределах его родины, – Магомет молился Богу, обращаясь подобно всем к стороне Иерусалима, и тем возбуждал насмешки Евреев, которые говорили ему: «как же ты проповедуешь новую веру, а молишься по-старому?» Досадуя на этот упрек, справедливость которого нельзя было опровергнуть, – Магомет просил
Бога указать ему какое-нибудь место для молитвы; и Бог указал ему на местонахождение «Каабы», которую он впоследствии открыл и возвысил до той степени, на которой она стоит во мнении мусульман теперь.
Стр. 1443 …28-го июня. До вступления Шамиля в управление немирным краем, все общества и деревни управлялись старшинами и Кадиями, власть и влияние которых были весьма сомнительного свойства. Убедившись в бессилии этих людей, Шамиль разделил страну на Наибства, предоставив Наибам весьма большие права. Они творили суд и расправу не только в обыкновенных тяжебных делах, но и все касавшееся безопасности и благосостояния вверенного им края, а также заготовление для военных действий продовольствия, – подлежало их ответственности, а, следовательно, их разбирательству и распоряжениям. Одним словом, им было предоставлено все военное управление, и все гражданское правление, кроме введения новых административных мер, имевших форму и силу закона. Последнее подлежало власти Имама, точно также как и смертная казнь, которая хотя определялась Наибами, но приговоры их приводились в исполнение не иначе, как с утверждения Шамиля. Впрочем, последнее постановление состоялось уже впоследствии, когда Шамиль узнал о случаях несправедливости Наибов, казнивших несколько человек совершенно безвинно, из корыстных видов. Во всем остальном исполнительная власть была сосредоточена в руках Наибов. Дела тяжебные (гражданские) разбирались Муллами и Кадиями, по смыслу Корана. Приговоры их передавались для исполнения Наибам в тех случаях, если с которой-нибудь стороны обнаружится нежелание покориться решению Шариата добровольно. Когда жалоба предъявлялась самому Наибу, – он требовал Кадия или Муллу и дело решалось на месте, согласно объявленного ими толкования. В этих случаях исполнение приговора следовало немедленно за решением дела. Апелляции не было; а если случалось недовольным довести свою жалобу до сведения Имама, то обыкновенно ответом была следующая фраза: «твой Наиб потому сделан Наибом, что он умный, честный и ученый человек; к тому же он разбирал твое дело и знает его лучше меня; стало быть оно решено по справедливости: ступай себе с Богом»…
При стесненном положении края вообще, при невозможности дать ходу гражданских дел какую-либо форму, а главное, при общем и весьма сильном отвращении горцев ко всякого рода формальностям и особенно к медленному производству, хотя бы дело шло о жизни или смерти тяжущихся, другого порядка вещей и быть не могло. Шамиль знал это очень хорошо; а потому и на слабую сторону своей администрации смотрел довольно равнодушно, выходя из этой апатии только в самых экстренных случаях.
Помощниками Наибов, как гражданских правителей, были, во-первых, мюриды, потом пятисотенные, сотенные и десятники. Они (кроме мюридов) избирались из людей, принадлежавших к местному населению, и назначались на эти должности Наибом. Он же назначал начальников во всех те места, где не было его резиденции. Начальники эти назывались «Дебирами». В отношении Наиба, они были тоже самое, что наши городничие в отношении губернатора. Занятия и права их были такие же, вообще же круг действий их был очень ограничен: они решали дела только незначительной важности: все же остальное представляли на усмотрение Наибов. В ведении Дебиров находились, между прочим, и Татели.
Все эти должностные, лица, взятые вместе, представляли собою сколок нашей городской и земской полиции. На них лежала обязанность отыскать и представить Наибу нужного ему человека; следить за действиями людей, подозреваемых в сношениях с неприятелями; наблюдать за точным исполнением жителями предписаний религии (Татель); передавать приказания Наибов подчиненным ему старшинам, сообщения соседним. Наибам и донесения Имаму и наконец, мюриды были исполнителями смертной казни.
В военном отношении, Наиб был главный начальник над войсками, расположенными в стране, вверенной его управлению. Другими словами: он был главный начальник всех, кто носит в его наибстве оружие. Безопасность Наибства лежала на полной его ответственности. Но распоряжаясь самовластно при вторжении неприятеля в его Наибство и даже снаряжая небольшие партии, или давая начальникам их позволение для набегов на наши пределы, – Наиб не имел права предпринимать без разрешения Имама экспедиции больших размеров.
Если в его Наибство являлся другой Наиб со своими войсками для совокупных оборонительных или наступательных действий, то этот последний подчинялся первому. Однако подчиненность эта была только наружная, ради выполнения Имамского приказа; в сущности же, оба они, не будучи друг на друга в претензии, действовали порознь, каждый по своему усмотрению, точно также как действовали и простые горцы, рядовые солдаты.
Этим объясняется причина неуспеха нападения многочисленных горских скопищ на наши самые мелкие команды, если встреча происходила на местности сколько-нибудь открытой. Зато, в лесах Чечни и в горах Дагестана, где каждый обороняющийся действует на свой страх, все выгоды были на его стороне, весь успех дела зависел от смелости и личной храбрости обороняющегося. Этим, в свою очередь, объясняется продолжительность Кавказской войны, на которую огромная разница в средствах противников имела весьма слабое влияние.
Помощниками Наиба в военное время, или, вернее, – частными начальниками в действующих войсках, были те же пятисотенные, сотенные и десятники. Обязанность их на время их отсутствия, также как и обязанности Наиба, исполнялись людьми, ими же самими для этого избранными. По большей части, это были или близкие их родственники, или хорошо известные им люди, на которых вполне можно было положиться.
Как в военное, так и в мирное время, Наибы подчинялись «Мудиру». Это звание Шамиль учредил для легкости сношений с Наибствами, слишком отдаленными от его собственной резиденции, а также и для более действительного надзора за некоторыми не совсем надежными Наибами. Такими Мудирами были у него: в начале – Шуаиб-мулла в Большой Чечне, Ахверды-Магома,
Даниэль-Султан, Албаз-Дебирь и некоторые другие в различных частях Дагестана. Последним был
Гази-Магомет. Относительно гражданской части, Мудир был нечто вроде генерал-губернатора нескольких Наибств.
Звание Мудира, вместе с некоторыми другими нововведениями, учреждено Шамилем по образцу Турецкому, со слов и по руководству известного в немирном крае чеченца Юсуфа-Хаджи, который долго жил в Аравии, Египте и в особенности в Константинополе, и возвратившись потом к Шамилю, – пленил его рассказами о Турецкой администрации.
Организовав, таким образом, управление немирным краем, Шамилю оставалось только наблюдать за добросовестным выполнением Наибами своих обязанностей и заниматься внешними делами своей страны. По его словам, он так и сделал. В какой степени принятые им меры были действительны, – мы можем теперь судить самым безошибочным образом, имея в своих руках все необходимые для этого данные.
30-го июня. Мне удалось помирить Магомет-Шеффи с Абдуррахманом. Хотя это примирение только наружное, но можно поручиться, что до ожидаемого отправления Абдуррахмана на Кавказ, особенного ничего не произойдет.
Стр. 1444 …Жена Шамиля Шуаннет в здоровье поправляется. Кроме следов горячки, в ней осталась еще слабость, вероятно и следствие кровопускания, Болезнь свою она приписывает, также как и все прочие женщины, перемене воды, но никак не собственной неосторожности.
За июль 1860 года. 3-го июля. Нет сомнения, что причина, побудившая пророка Магомета воспретить употребление некоторых предметов в пищу и питье, также точно как и введение в повседневный быт мусульманина особых обрядов, подобных омовению, бритью волос и проч., имеет в своем основании гигиену, соблюдение которой столь необходимо в жарком климате Востока.
В этом случае, конечно, труднее всего было заставить мусульман отказаться от вина, в котором уже ровно ничего не заключается нечистого, а опьяняющее его свойство может вредить только тем, которые употребляют его неумеренно. Но пылкий нрав и горячая кровь последователей Магомета заставляли его опасаться, что последних будет большинство.
Эта причина и побудила Магомета подкрепить сказание о боговдохновенности запрещения на вино фактов из действительной жизни. Факт этот занесен в мусульманские книги и, по словам Шамиля, заключается в следующем.
Однажды Пророк выехал верхом на своей кобылице за город, с целью найти в окрестностях его уединенное место, где бы можно было без помехи предаться размышлениям и самосозерцанию. Проезжая садами, он встретил многочисленное общество, которое, расположившись на траве, весело беседовало, сопровождая это занятие обильными возлияниями. (В то время вино еще не было запрещено). Поравнявшись с пирующими, Пророк благословил их, и, пожелав мирного веселия, поехал дальше. Через несколько часов, возвращаясь домой, доехав до того места, где оставил веселившихся людей, увидел их всех лежащих мертвыми. Пир перешел в ссору, и пирующие перебили друг друга.
Видя это, Пророк начал молиться Богу и просить позволения запретить вино, которое приносит так много зла. Тогда предстал пред ним ангел Джабраил (Гавриил), возвестивший ему, что Бог повелевает запретить употребление вина и что он сделал его свидетелем этой кровавой картины нарочно для того, чтобы еще рельефнее выставить правоверным тот вред, который заключается в вине.
Но из всех правоверных, живших прежде и живущих теперь, конечно Шамиль глубже, чем кто-нибудь сознает непреложность этой истины. При своей незлобивости и христианском, если так можно выразиться, желании всем людям добра, он питает сильное отвращение к тем, которые неумеренно пьют вино, по справедливости считая их врагами общества, способными причинить рано или поздно большое зло.
6-го июля. В происшедшем сегодня разговоре, мне пришлось спросить Шамиля: отчего он бездействовал во время Турецкой войны, когда за откомандированием значительной части войск с Левого Крыла Кавказской линии в Азиатскую Турцию, он по справедливости мог надеяться на успех, если бы принял положение наступательное.
Шамиль отвечал, что, напротив, в начале кампании, он действовал весьма энергически, и при том в таких условиях, что его даже можно назвать одним из прямых участников минувшей войны, так как, вследствие предварительного соглашения с Турецкими Пашами, он действовал так, чтобы соединиться с союзными войсками и действовать впоследствии совокупно против наших войск на Кавказе.
Затем, он рассказал мне подробности своих сношений с союзниками. При самом начале войны, он получил предложение приготовиться к встрече союзных войск и к соединению с ними в Имерети. Изъявив свое согласие, Шамиль тотчас же принял меры к осуществлению этого плана. Собрав всех способных носить оружие, и оставив из них необходимое число людей для защиты края, с остальными войсками в числе 12,000 чел. (7,000 конницы и 5,000 пехоты) двинулся он весною 1854 года в Джаро-Белоканский округ.
Делая распоряжение, лишавшее страну большей части ее защитников и облегчавшее успех нападения на нее Русских, Шамиль именно принимал в соображение откомандирование наших войск в Азиатскую Турцию, что, по его мнению, лишало в свою очередь и нас возможности предпринимать наступательные действия в больших размерах.
Говоря о последующих своих действиях на Лезгинской Кордонной Линии, Шамиль упомянул о сражении при Чирахе, в котором, по его словам, Русские потерпели большой урон. После этого, он предложил идти на Тифлис; но свободнее в этом случае действовать, – послал предварительно известие о своем намерении в Карс и к Паше, начальствовавшему войсками в Абхазии, и в ожидании ответа отрядил старшего своего сына со всею конницей и с небольшим числом пеших охотников в Кахетию (последствием чего было взятие в плен Грузинских княгинь), а сам расположился с остальными войсками возле какого-то нашего укрепления, которое оставлено было нами еще прежде и название которого он позабыл.
В скором времени он получил ответ, содержание которого было для него крайне оскорбительно. Вместо признательности за изъявленную им готовность содействовать намерениям союзников и за быстроту в исполнении данного им обещания, ему делали упрек и даже выговор как простому подчиненному лицу за его действия, которые, по соображению союзных генералов, до времени не должны были иметь наступательного характера.
Затаив в душе злобу и даже не удостоив своих союзников ответом, Шамиль дал себе слово не только не содействовать им в каком бы то не было отношении, но оставаться спокойным зрителем и тогда, если бы союзные войска появились в самом сердце Дагестана. Снявшись немедленно со своей позиции, к чему побуждал его также внезапно выпавший в горах снег, грозивший сделать путь отступления непроходимым, Шамиль возвратился в Ведень, распуская дорогою свои войска по домам, и послав сказать Гази-Магомету, чтобы тоже шел из набега домой, а не в Джаро-Белокань.
В последующее затем время мы видели, что и в самом деле действия Шамиля в продолжение остального времени Турецкой кампании, были как-то особенно вялы, совсем не такие, какими бы они могли быть; и вообще в них было заметно отсутствие энергии, которую тогдашние наши обстоятельства на Левом Крыле весьма способны были вызвать в противнике и менее даровитом, нежели Шамиль.
Сношения его с Турками были письменные. Шамиль вел переписку с тремя пашами: с Решидом, Ахметом и Селимом – тем самым, который был у нас в плену.
Письма доставлялись Меккскими богомольцами и подданными Даниэль-Султана, которые зашивали их в одежду, обувь и даже запаивали в медные кувшинчики, всегда сопровождающие мусульманина в путешествиях и употребляемые для омовений. В этих кувшинчиках приделывалось фальшивое дно, которое и закрывало собою письма.
Корреспонденция производилась через Елису, в Карс и Абхазию, а также, при посредстве Магомет-Амина, прямо в Константинополь.
Стр. 1445 …В заключение, Шамиль снова указал на «невероятность» Турков, в которой вышеозначенные сношения удостоверили его окончательно, усилив вместе с тем и нелюбовь, которую он постоянно к ним питал и в прежнее время.
9-го июля. Сегодня Шамиль объявил мне, что с этого числа у них начинается новый год, что в этот же день родился он сам, и что сегодня ему исполнилось шестьдесят пять лет. Затем, он рассказал виденный им в эту ночь сон, который, по его мнению, должен иметь большое значение.
Он видел фельдмаршала кн. Барятинского с озабоченным лицом и с непокрытою головою. Это последнее обстоятельство означает по приметам горцев большие хлопоты и вообще неудовольствие для той особы, которая в сонном видении представилась с открытою головою.
Окончив свой рассказ, Шамиль впал в задумчивость; но через несколько минут он опомнился и тотчас, же потребовал карту Чечни и Дагестана.
Когда желание его было исполнено, он, прежде всего, просил меня показать течение р. Хулхулау, и затем, ознакомившись с картою, повел очень длинную речь, сущность которой заключается в следующем.
Немирная Чечня, как Большая, так и Малая, всегда играли роль житницы в отношении немирного Дагестана. Для караванов было две дороги: те, которые, выходя из северной части Дагестана, вели через Салатау и Ичкерию в Ведень. Но затруднения, представляемые на этом пути природою, побуждали людей, менее способных к риску, избегать этой дороги, и ею пользовались только записные любители прямых сообщений, да и, то в одно лишь летнее время; зимою же, и в распутницу Ичкерия и Салатау становятся окончательно непроходимыми. Тогда, караваны шли по той дороге, по которой обыкновенно ходили караваны южного Дагестана. Крайний пункт, откуда она начиналась, был аул Анди. Отсюда караваны переваливались через Черный хребет и шли в Ведень долиною реки Хулхулау. На всем этом пространстве дорога была хорошая, за исключением лесистой местности возле аула Хорочай. Впрочем, встречаемые здесь затруднения не столько происходили от природных условий, сколько со стороны жителей Хорочая, постоянно грабивших те караваны, которые не в состоянии были им сопротивляться. По словам Шамиля, все Хорочаевцы, от первого до последнего, неисправимые разбойники, которых даже общественное мнение заклеймило, назвав их селение: «Харакчи». На этих людей не действовали ни угрозы, ни близкое соседство с резиденциею Имама, ни денежные взыскания и заключения в яму, ни даже смертная казнь, лишавшая деревню многих ее обитателей. Наконец, наскучив беспристрастными жалобами на разбои и убедившись, что никакая строгость не прекратит их до тех пор, пока Хорочай будет обитаем своим разбойничьим населением, Шамиль решился принять последнюю меру, которая и в самом деле оказалась действительною: он выселил Хорочайских жителей в разные места Дагестана, – и с тех пор разбои совсем прекратились. Но с устранением этого зла, возникло другое: на всем пространстве от Черного Хребта до Веденя не было ни одного жилого места, необходимого путешественникам для отдыха. Хорочай представлял в этом отношении много удобств, вследствие чего все Дагестанские общества обратились к Шамилю с просьбою о заселении этого пункта вновь. Шамиль дал разрешение, и Хорочай опять заселился именно теми же обывателями, которые жили в нем и прежде, только с прибавлением нескольких других негодяев, приведенных ими с собою из чужбин на старое пепелище. Так как это случилось незадолго до падения Гуниба, то возобновившиеся жалобы на грабежи еще не успели истощить терпения Шамиля и побудить его к принятию прежней меры, а потому те же разбойники населяют Хорочай и теперь.
Ни мало не сомневаясь, что в настоящее время жители Хорочая будут продолжать разбойничать еще в больших против прежнего размерах, Шамиль не придает, однако, обстоятельству этому большого значения, во-первых, по малочисленности населения, воззрений которого страна не разделяет; во-вторых, потому, что как бы ни был велик в этой местности беспорядок, он не может иметь характера серьезного, способного внушить предположение о восстании в целом крае или в значительной его части; а будет выражать присутствие обыкновенной разбойничьей шайки, которую легко сокрушить одним ударом, а для устранения подобных попыток на будущее время, стоит только наказать примерно жителей Хорочая, и потом выселить их поодиночке в разные места Чечни и Дагестана.
Выразив убеждение в крайней необходимости этой последней меры, Шамиль говорит, что не одни только окрестности Хорочая служили и будут служить театром грабежей и разбоев; все пространство от дер. Буртуная в Салатау до Алистанджи в Большой Чечне долго еще будет притоном всех бобылей и негодяев Дагестана и Чечни, которые, составляя из себя шайки, иногда значительные по численности, – не один еще раз потребуют внимания Русских начальников и действий Русских войск. В устранение соблазна, представляемого лесистою местностью этого района, Шамиль считает весьма полезным сделать в нем большие просеки, и преимущественно в так называемых «Воровских балках». Это, по его мнению, необходимо для всех вообще закрытых мест. С принятием этой меры, беспорядки, производимые время от времени отдельными шайками, имеющими своею специальностью разбои, – не будут, между прочим, служить поводом к обвинению в неприязненности к Русским целых населений этой местности: население искренно желают спокойствия, но в среде каждого племени и каждого общества, всегда есть несколько горячих голов, преимущественно из молодежи, готовых к восстанию всякую минуту, особенно теперь, когда военный гром еще явственно отдается в их ушах. Слушая сказания о делах давно минувших дней, и припоминая собственные недавние подвиги, молодые люди будут воспламеняться и требовать или по меньшей мере «желать» не то, чтобы «прежнего», но просто «другого» порядка вещей. Приписывая это ни чему иному, как особенной живности характера горцев, которая сгладится исчезновением старого поколения, – Шамиль не придает важности и проявлениям этой живности, на том основании, что молодежь всегда будет останавливаема в своих порывах людьми опытными и благонамеренными, которые хорошо понимают неуместность всякого движения, потому, что уже достаточно убедились в безопасности сопротивления Русским и в невыгодах только что прекратившегося деспотизма, к которому, по словам Шамиля, он был вынужден силою обстоятельств и особенностью народного характера; в благодетельных результатах Русского владычества, они давно удостоверились через сравнение условий своего быта с бытом покорных туземцев; и наконец, вообще сознают необходимость для страны отдохнуть от долговременной борьбы и сопряженных с нею страданий. Таких благоразумных людей, по словам Шамиля, в покоренном крае весьма много. Беспокойная молодежь постоянно будет встречать в них сильную оппозицию. Тем не менее, легко может случиться, что неостывшая еще страсть к приключениям, если не увлечет за собою более благоразумных, то возьмет над ними перевес. Прямым последствием этого будут волнения, хотя отнюдь не повсеместные, но вполне способные возбудить в Русских начальствах опасения, которые, однако, по мнению Шамиля, будут справедливы только до некоторой степени, именно относительно внешнего вида таких восстаний, сущность же их не будет заключать в себе действительной важности до тех пор, пока из среды горцев не явится предводитель, вполне способный не только руководить столь трудным предприятием, но и заставить горцев Стр. 1446 (а это главное) подчиниться своей воле и беспрекословно исполнить все свои распоряжения, без чего, по убеждению Шамиля, нет возможности привести горцев к какому бы то не было общему делу, а тем менее к такому сложному, как то, о котором идет речь и успех которого навсегда убит прежними событиями. Сами горцы, не имея такого предводителя, ни за что не начнут движения: они должны прежде выбрать его. Но они не найдут нужного человека: глупого они не выберут, а умный наверное сам откажется от предлагаемой ему чести, памятуя то состояние невольничества, в котором находился Шамиль, и те невыносимые мучения, которые неизбежно выпадают на долю главного предводителя горцев, независимо уверенности в дурном исходе подобного дела.
Сколько знает Шамиль, во всем покоренном крае только один Кибит-Магома мог бы управлять этим делом, как человек вполне способный, и к тому же обладающий большим запасом честолюбия. Но и он по старости лет и вследствие физических немощей едва ли возьмется за него; да и Правительство наше, вероятно, следит за ним, чтобы не допустить с его стороны малейшего вмешательства в затеи горцев.
Таким образом, хотя волнения в покоренном крае возможны, а в первое время даже неизбежны, но проявление их в форме восстания никак нельзя ожидать; а все будет ограничиваться сходками без важных последствий, глухим говором и разбойничеством. В истине этого Шамиль убежден вполне.
Но если Божиим попущениям явится в покоренном крае человек, способный руководить нелепым стремлением буйных голов, то зло, которое от этого произойдет, – конечно, будет велико. Нет сомнения, что для прекращения его в самом начале будут приняты все должные меры. Для устранения же возможности повторения такой попытки в другой раз, Шамиль считает самым надежным средством смертную казнь «многих» зачинщиков, с таким притом условием, чтобы снятие с них головы были помещены в видных местах в тех селениях, которые преимущественно выкажут неприязненность к Русским, или к которым зачинщики принадлежали. Средство это вполне противоречит духу нашего правления; но, по убеждению Шамиля, оно необходимо для горцев, потому, что наказания могут на них действовать благодетельным образом тогда только, когда в неисправимости их последствий они удостоверяются собственными глазами.
В этом отношении, ссылку в Сибирь, Шамиль считает средством далеко недействительным: впоследствии, когда население страны вполне войдет во вкус мирной жизни и ее занятий, наказание это как нельзя лучше будет соответствовать своей цели. В настоящее же время, она окажется решительно вредною, как и всякая полумера в делах, требующих энергии. Шамиль говорил, что он и сам охотно бы употреблял ссылку для многих их тех преступников, которые были преданы им смертной казни, но во-первых, у него, как он выразился, «не было Сибири», а во-вторых, если бы и была, то он посылал бы в нее только тех вредных членов общества, которые обвинялись в преступлениях гражданских, для преступников же против военного закона этого исключения у него бы не было. Ссылка может быть применена к Русским, Немцам, для всякого другого народа, только не для горцев. Сибирь, хотя и далека, но неизвестно худо ли там, или хорошо, а некоторые из ссыльных, возвращенные на Кавказ из Сибири, из разных мест России, говорят даже, что там совсем не худо. Сам Шамиль лично убедился, что некоторые из ссыльных живут у нас лучше, чем жили у себя дома, на свободе. К тому же, родственники ссыльных преступников, часто люди вполне преданные Правительству, не преминут ходатайствовать у Кавказского Начальства о прощении их, или о сокращении срока ссылки, что вероятно и буде исполнено в уважении или в награду их собственных заслуг. Бывши Имамом, Шамиль сам неоднократно делал подобное послабление. Таким образом, наказание это постигнет преступника не в той мере, какой бы он подлежал по свойству преступления и для примера тем, которые близки к такому же преступлению. Ссылка дело поправимое, а все, что может быть исправлено, не страшит людей испорченных вообще: на горцев же тем менее окажет влияния. Вернее предположить, что подобного рода наказания гораздо скорее подвинут порочных или буйных горцев к восстанию, хотя бы ради возможности войти в новые условия жизни, испытать новые ощущения и вообще разнообразие, до которого горцы большие охотники.
Совсем иное действие произведет на них смертная казнь. Хотя и привыкли горцы к зрелищу смерти, идя на встречу ее в сражениях, или встречая ее каждый день неожиданным образом в своих беспристрастных ссорах, где иногда один косой взгляд порождает смерть; но собственно казнь производит на них впечатление тяжелое; а вид отрубленной головы знакомого или незнакомого человека, воображение ожидания им последней минуты, не оставляющей уже никаких надежд, и мысленное применение этого состояния лично к себе, все это представляет единственное и самое верное средство для образумления горцев. Употребляя его, Шамиль не приказывал даже хоронить выставленных по деревне голов до тех пор, пока сами жители не обращались к нему с просьбою о предании казненных земле.
Сознавая всю жестокость этой меры, Шамиль снова повторил свое убеждение в действительности ее; причем, положительно сказал, что страх смертной казни и вид казненных преступников составляли тайну его могущества и причину безграничного влияния его на горцев.
Далее Шамиль высказал свой взгляд на те общества, которые он считал наиболее способными к восстанию, или от которых, скорее всего можно ожидать этого. Он полагает, что племена Чечни и Дагестана в этом отношении все одинаковы: все они, по свойству своего характера и вследствие долговременной привычки к хищническому образу жизни, имеют наклонности разбойнические, проявления которых следует ожидать постоянно, если вышеозначенные меры не будут употребляемы до тех пор, пока горцы окончательно не свыкнутся с условиями мирной жизни и не отдадут своего оружия. Но особенною непокорностью властям, и даже направлением чисто демократическим, а вместе с тем самою высокою храбростью, отличаются между всеми племенами Восточного Кавказа обитатели Гехинских лесов и вообще местности, принадлежащей к бассейну р. Гехи: если в какой-нибудь сотне есть хоть один Гехинец, то присутствие его как нельзя более заметно: сотня эта действует в сражении с такою энергиею и мужеством, какими не отличаются другие части войск, не имеющие в своих рядах Гехинцев. С этим народом Шамилю труднее всего было справиться: это происходило не от того, чтобы не хотели они признавать его власти, но единственно по склонности к независимости, или вернее сказать, к своеволию.
После Гехинцев, в мнении Шамиля дурно стоит вся Малая Чечня, Шатой и в особенности аул Беной в Ичкерии. Леса, покрывающие эту местность, следует истребить все. Сами Ичкерцы по малочисленности своей совершенно неопасны; скорее опасна населяемая ими местность, которая, в случае восстания в соседних обществах, может быть занята мятежниками, как хороший стратегический оплот для войны оборонительной, причем население Ичкерии, вследствие именно своей малочисленности, неизбежно будет увлечено. Что же касается аула Беной, жители которого, как нам известно, всегда отличались преданностью к Шамилю и ненавистью к Русским, то по убеждению Шамиля, не столько опасно их недоброжелательство, сколько фанатическая ненависть к Русским Наиба их Байсунгура по прозванию «Биргез». Восстание этого аула, если только жив Байсунгур, неизбежно. В награду необыкновенной храбрости и преданности делу Газавата, Байсунгур получил от Шамиля две медали. Когда Гуниб пал, Байсунгур поклялся всенародно не снимать своих медалей и не прекращать войны с Русскими до тех пор, пока не слетит с него голова. Поэтому на преданность Беноевцов тогда только можно будет положиться, когда не будет между ними Байсунгура. Но этого, кажется, иначе нельзя достигнуть как с его смертью, потому что живым он едва ли отдастся в наши руки.