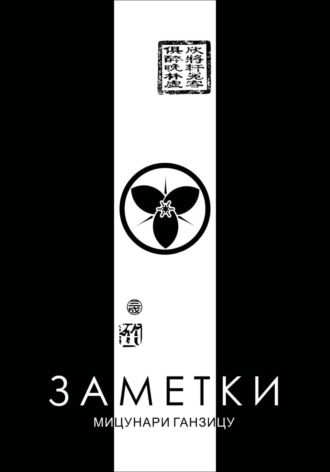
Мицунари Ганзицу
Заметки
Поэтому я бы всё-таки в подобных случаях использовал термин «заимствование», что касается иных случаев, то всегда надо определять цель, то есть с какой целью использовано чужое произведение. Но не будем так глубоко погружаться в авторское право, для интересующихся повторю, что наименование источников заимствования переводов и ссылки с указанием источников отдельно приведены в приложении к первой части заметок.
Так вот, возвращаясь к стихам Бань-цзеюй, на эти строки одним из первых в Китае откликнулся поэт Се Тяо (464–499), но этим откликом, как оказалось, окончательно закрепил в поэзии связь образов сетований на яшмовых (дворцовых) ступенях о потерянной любви. Привожу цитату с переводом стиха Се Тяо из статьи Игоря Сергеевича Смирнова:
Вечером в тереме / опустила жемчужный полог; //
Блеснул светлячок / погас-растаял во мраке. //
… [9]
В свою очередь, в ответ на строки Се Тяо не смог промолчать и Ли Бай, во многом заимствовав образы и строки из стиха Бань-цзеюй и самого же Се Тяо.
А вот теперь, любознательный читатель, почитаем варианты переводов стихотворения Ли Бая:
На ступенях нефритовый иней лежит пеленой;
Сквозь двойные чулки пробирает холод ночной.
… [1]
Ступени из яшмы
Давно от росы холодны.
… [2]
На крыльцо из нефрита
белый иней россыпью лёг.
… [3]
Я стою… У яшмовых ступеней
Иней появляется осенний.
… [4]
Заиндевело яшмово крыльцо,
Чулок ночная влажность захватила.
… [5]
Но тут такое дело получается, если мне, как любознательному читателю, не нравится, хотя и не совсем корректно так говорить, нравится – не нравится, «перевод не созвучен восприятию», вот, так лучше, использованное ли слово с ярким звучанием или не совсем понятная аналогия рассевают внимание, то просто беру и делаю свой вариант перевода подстрочника.
То есть, если спросить впрямую, в чём для меня смысл собственного перевода того, что переведено-испереведено до тебя, ответ – не хочу довольствоваться не приемлемыми для меня аналогиями. Конкретно по этому тексту никого не хочу обидеть, но вот это: «увлажнён чулок мой кружевной», «чулок пропитан влажностью ночною», «намокли кружева узорных чулок» – у меня вызывает ассоциации не с образованной дамой из императорского гарема, а… с дамой полусвета, не знаю, как ещё назвать, не именуя «неподцензурным» словом то место, где можно таких образов набрать в авторский словарь.
Да, перевод – это дело не быстрое, надо попутно прочитать всю доступную литературу в профессиональном сообществе китаистов, просмотреть все переводные статьи на китайских интернет-ресурсах и проконсультироваться со знающим язык человеком, но тут один важный момент – которому и самому будет интересно разобраться в хитросплетениях сюжета и композиции. Слава Богу, у меня есть такой человек, которому при всей загруженности преподаванием китайского языка ещё и интересна древняя китайская поэзия. Во многом благодаря совместному обсуждению находится вариант, который можно назвать приемлемым, так как он не противоречит основным правилам грамматики китайского языка, и в русском варианте такое прочтение мне, разумеется, ближе, что не отменяет и не умаляет трудов всех иных переводчиков и поэтов.
В какой-то мере я следую рекомендациям доктора филологических наук Юрия Александровича Сорокина, который в своей рецензии на книгу Сергея Аркадьевича Торопцева «Ли Бо. Дух старины. Поэтический цикл», изданную в 2004 году, написал: «Переводить Ли Бая строка в строку, не ссылаясь на сверхтесноту китайского поэтического текста, русскоязычные версии сопровождать дословным переводом, дающим возможность другим переводчикам – китаистам и некитаистам – предлагать свои варианты истолкования исходного текста, а кроме этого, к переводам обязательно прилагать комментарии переводчика». Рецензия на переводы была очень позитивная и даже сверхблагосклонная, что у меня вызвало единственную ответную реакцию: «А, понятно, оказывается, так можно было». Сразу оговорюсь, что работы Юрия Александровича Сорокина в направлении переводоведения, теории и практики межкультурной коммуникации вызвали у меня самый большой практический интерес.
Хочу подчеркнуть, что у меня нет и не было цели отстаивать либо чистоту, либо красоту перевода, между «умными» и «красивыми» я выбираю «знающих то, как на самом деле было», чтобы потом они сами могли сделать выбор, на чьей стороне хотят быть. Я даже не называю себя профессиональным переводчиком, ведь это совсем другой уровень, тем более я не имею никакого отношения к профессиональным поэтам. Я отношу себя к тем, ради кого, собственно, в принципе, и живут и работают все переводчики и поэты, – я читатель.
И вот в моём варианте прочтения среди потерь то, что может быть неправильно понято последующими читателями – в первой строке оригинала стоит глагол «рождает», нам ближе, когда роса «проступает» или «выпадает», – но по контексту глагол настолько очевиден, что может быть выведен за текст перевода, во второй строке ближе по эмоциональной окраске было бы перевести глагол со значением «вторгнуться», как «без согласия, с применением насилия», действительно, чувственность и любовное томление настолько неразрывно сплетены в тексте, что просто так не разделить, использовано нейтральное «пропитать».
В завершающей строке при прочтении использовано одно из первоначальных значений глагола «смотреть», «ожидать с надеждой», но это за скобками, а в подстрочник занесено значение «полный / круглый», в древнем календаре династии Чжоу так обозначался 15-й день месяца, когда можно было наблюдать полнолуние.
Насколько уместно именно такое прочтение этого слова, можно сказать только в контексте переклички поэтов. Мы ведь помним о веере, «белом и круглом-круглом, как полная луна» в поэме у Бань-цзеюй.
Ведь теперь, мой дорогой друг, такой же, как и я, любознательный читатель знает, что холодно-серебристый лунный свет похож на звук нефритовых поясных украшений-оберегов, которые при ходьбе издают мелодический звон, отгоняют злых духов и служат оповещением о приближающемся посещении, а ещё русскому языку знаком такой образ, как «льющийся серебристый звон», так и «льющийся серебристый лунный свет». Тогда закономерно возникает вопрос, почему не использовать в переводе «серебряный» как более воспринимаемый эпитет, почему, да, – правильно, потому что этого вообще нет в оригинале, а если этого нет в оригинале, то лучше ничего «от себя» не добавлять сверх необходимого или очевидного.
На ступенях дворца / капли белой росы
Пропитали за ночь // шелка белых чулок.
Возвратясь, уроню / льдом искрящийся полог
В звон нефритовый // полной осенней луны.
Авторское прочтение
3. Чёрный ворон
黄云城边乌欲栖
归飞哑哑枝上啼
机中织锦秦川女
碧纱如烟隔窗语
停梭怅然忆远人
独宿孤房泪如雨
Есть у Ли Бая ещё одно интересное стихотворение, а какие у него стихотворения неинтересные?
«Ночной крик ворона» – так назвал его сам автор. Мне известны два перевода этого стихотворения: один сделан поэтом, второй синологом.
Теперь это не является чем-то особенным или каким-то неизвестным фактом, что Александр Ильич Гитович, будучи признанным переводчиком китайской поэзии, сам языка не знал и переводил исключительно с подстрочника. Разумеется, руководствуясь при этом многочисленными пространными комментариями тех, кто действительно знал китайский язык. Повезло: его советчиками и друзьями были такие специалисты древней китайской поэзии, как Георгий Оскарович Монзелер, Борис Иванович Панкратов, Виктор Васильевич Петров, Ольга Лазаревна Фишман, Евгений Александрович Серебряков, Николай Трофимович Федоренко, наверное, всех и не смогу здесь упомянуть. То есть ещё раз обратим внимание, что Александр Ильич Гитович был в первую очередь поэтом, и только поэтом, никак не китаистом, никак не человеком, который знал язык и мог бы опираться непосредственно на восприятие текста.
В отличие от него, Сергей Аркадьевич Торопцев, достаточно погружённый в атмосферу Китая вообще и эпохи Тан в частности, является видным и признанным исследователем, культурологом, синологом – то есть человеком, который глубоко изучает, понимает историю, культуру, поэзию и литературу различных эпох Китая.
Переводы Сергея Аркадьевича Торопцева сочетают в себе и знание многих и многих реалий национального китайского колорита, и богатую поэтическую палитру всевозможных образов и приёмов русской словесности. Достаточно редкое и очень счастливое сочетание таких дарований в одном человеке. Вопрос, всегда ли может обладатель таких талантов бережно ими распорядиться.
Вернёмся к стихотворению, которое хотелось бы не столько разобрать, сколько перечитать вместе с переводом Александра Ильича Гитовича и вместе с переводом Сергея Аркадьевича Торопцева и, что называется, почувствовать разницу.
В переводе Александра Ильича Гитовича интересен момент, связанный с цветом парчи, которую ткёт женщина. Александр Ильич Гитович выбрал синий цвет, который действительно более перекликается с синей дымкой тумана за окном. Да, в Китае иероглиф 碧 [bi], который Ли Бай выбрал для описания цвета пряжи, из которой женщина ткёт парчу, имел не только значение «цвет, похожий на туманные дали за окнами». Цвет пряжи в данном случае нёс и другую смысловую нагрузку: зелёный (нефрит) цвет в Китае – этот цвет измены.
Что интересно, в русском языке чаще всего синонимом измены является жёлтый цвет: он тоже присутствует в этом стихе, но только в другом качестве, в качестве обозначения отдалённости происхождения определённых событий.
С жёлтого цвета прямо начинается стих – «жёлтые облака», как бы мы сказали, далёкого приграничного края, для нас, может быть, это не совсем явный признак «жёлтое облако», что действие происходит далеко, а для китайца жёлтый цвет облаков стойко ассоциируется с облаками над приграничными землями, там, где песок, там, где пустыни, и поэтому облака постоянно имеют жёлтый оттенок то ли от песка, который поднимается ветром в небо, то ли от отражения яркого солнца от песчаных барханов.
И вот как раз эти два цвета «жёлтый» и «зелёный» не во всех переводах использованы как дополнительные цветовые акценты. Надо отметить, что уже упоминавшийся иероглиф [bi] имеет своё происхождение от цвета камня, скорее всего, какой-нибудь зеленоватой разновидности нефрита. Ведь мы помним, что только нефрит мог быть достойным упоминания в поэтическом произведении. Но вот интересно, а чем же так важно было указать автору, а какого, собственно, цвета была пряжа у пряхи за станком? Потому что на самом деле в этом стихотворении скрыта тайна целой трагической истории любви.
Любви между третьей дочерью образованной интеллигентной чиновничьей семьи древнего Китая Су Хуэй и бравым военачальником Доу Тао, который клялся в том, что ни на ком больше, кроме своей любимой, не женится, но как только за какое-то вольнодумство на службе был отправлен в далёкий приграничный гарнизон, сразу взял там себе ещё одну жену, вторую или младшую по статусу, просто наложницу, то есть, во всяком случае, слово своё не сдержал и вполне себе благополучно нёс службу в приграничных землях, особо не вспоминая об оставленной дома жене.
А жена его на самом деле не забыла о своём легкомысленном муже, и, хоть вести из приграничного гарнизона и доходили достаточно долго, она получила каким-то образом сообщение, очевидно, с совершенно благой целью от доброжелателей о том, что у мужа всё хорошо с новой женой. Однако эти вести, конечно, не добавили радости, а вызвали печальные мысли по этому поводу, которые она и выразила в стихах.
Но что это были за стихи, дорогие любознательные читатели! Что это были за стихи! Если бы это было просто несколько стихотворений, написанных на красивой бумаге изящной каллиграфией, отправленных в украшенном свитке, возможно, мы никогда бы и не узнали об этой трогательной истории преданного доверия, но в нашем случае всё было совершенно иначе.
Несмотря на то, что дочка в семье была третьей, девушка была достаточно искусна и в стихосложении, и в таком привычном для того времени женском занятии, как ткачество.
И вот что же произошло. День за днём, трудясь на своей женской половине за ткацким станком, оставленная жена выткала кусок парчи, весь заполненный узором из иероглифов, которые были вытканы разными цветными нитями, в том числе и зелёными, и синими, и можно было читать строки по горизонтали, по вертикали, справа налево и слева направо, сверху вниз и снизу вверх, наискосок и даже по кругу, то есть, вдумайтесь, этих стихов, как насчитали исследователи, было более 7000, и каждое сочетание давало новые смыслы, новые образы и новые увещевания, обращённые к тому человеку, который её покинул и нарушил своё обещание.
Вот такой подарок Су Хуэй отправила своему неверному мужу в его приграничный гарнизон, и, хотя время было не самым спокойным, караваны грабили достаточно часто, но каким-то чудом её подарок всё-таки достиг адресата.
История умалчивает, смог ли генерал Доу Тао прочитать все вытканные стихи и сразу ли понял, какого интересного человека он может потерять в своей жизни, но факт остаётся фактом, в результате было написано разводное письмо наложнице, и поскольку срок его изгнания подходил к концу, в скором времени генерал вернулся к жене, которая его простила и приняла (учитывая, что отсутствие ревности тоже было одной из женских добродетелей).
В настоящее время в Китае существует даже целый институт, изучающий это стихотворение-палиндром, и говорят, что нашли ещё несколько сот прочтений и общее количество стихов приближается уже к 9000.
В переводе Сергея Аркадьевича Торопцева есть примечание и, по крайней мере, даётся отсылка к образу циньской пряхи как широко распространённому в поэзии Китая образу покинутой жены. А Александр Ильич Гитович не посчитал необходимым в своём переводе использовать этот образ, он «пошёл с козырей» и сразу сделал её не просто покинутой женой, а вдовой (хотя есть и такой вариант истории отношений между Су Хуэй и Доу Тао), что решило многие вопросы и сомнения.
Надо отметить, что перевод Сергея Аркадьевича Торопцева в целом гораздо ближе к сути, которая была заложена в оригинале произведения, и женщина прямо называется «подобно циньской пряхе», и даётся ссылка, раскрывающая этот образ. То есть в этой части практически никаких вопросов у любознательного читателя возникнуть не должно. Хотя, возможно, немного жаль, что образ в переводе не совсем раскрыт и нет описания цвета пряжи, которую она прядёт, ведь для кого-то это могло быть сигнальным маячком, что надо поискать глубже. Конечно, с одной стороны, понятно, что русскому читателю зелёный цвет, даже бирюзовый или синий, ни о чём не скажет, но в то же время может дать толчок к поиску, почему именно этот цвет использован как в переводе, так, наверное, и в оригинале. Ведь известно, что очень часто читатели, которые более или менее владеют каким-либо языком оригинала, пытаются найти первоначальный стих-исходник, так сказать, послуживший отправной точкой для создания произведения переводчиком. И, конечно, особые, так назовём, метки – цвет, какие-то образы, использованные автором, – безусловно, могли бы помочь желающим найти текст оригинала в его поисках.
Однако вот в этом моменте перевод Сергея Аркадьевича Торопцева, ещё раз повторюсь, достаточно уважаемого, видного синолога, искусствоведа, вызвал у меня некоторые, так скажем, не то чтобы сомнения, но некоторые вопросы, которые, может быть, и не совсем уместны в таком контексте, потому что, как известно, переводчик – автор своего произведения, и он художник, он так видит, но первые строки перевода, начинающиеся с упоминания о том, что на воротах сидит ворона, которая плачет и переживает о том, вернётся ли муж-ворон, ну как минимум вызвали подозрения в том, что синолог – точно не орнитолог. Ведь в России наверняка и во всём мире, скорее всего, ещё в школьном курсе биологии изучают вопрос о том, что ворона не является женой ворона и ворон не является мужем вороны, потому что это два совершенно разных вида птиц.


