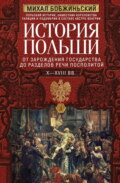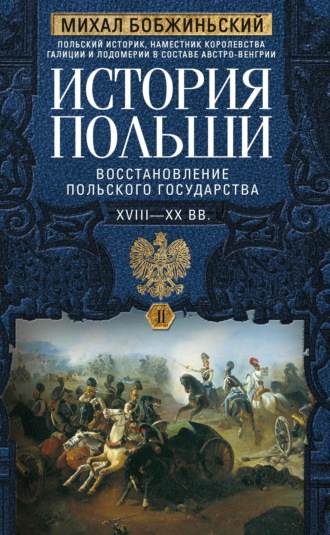
Михал Бобжиньский
История Польши. Том II. Восстановление польского государства. XVIII–XX вв.
Венский конгресс
В октябре 1814 года для упорядочения европейских дел в Вене собрался конгресс победивших и сославших Наполеона на остров Эльба, а также восстановивших во Франции правление монархов – представителей династии Бурбонов. Причем Наполеона разгромили в союзе с Англией все те же державы, которые за двадцать лет до тех событий совершили раздел Речи Посполитой. Поэтому было естественно, что, исключив из числа участников конгресса детище Наполеона – Великое герцогство Варшавское, они решили восстановить границы своих польских территорий, захваченных в результате третьего раздела, и вернуться к договору 1797 года о стирании имени Польши. Этого требовала Австрия, а больше всего Пруссия, желавшая вернуть себе районы, из которых было образовано Великое герцогство Варшавское.
С этим, однако, не соглашалась Россия, которая ценой неимоверных усилий и жертвы своей столицы – Москвы сломила мощь Наполеона и в ходе преследования французских войск заняла территорию Великого герцогства Варшавского. Ведь в противном случае ее армии пришлось бы оставить его территорию, а самой пребывать с пустыми руками. Награду же за все понесенные лишения российский император Александр I видел только в передаче России герцогства, в котором он уже учредил свое правительство, получившее название Временного верховного совета.
При этом на простое присоединение герцогства к России, точнее, к ее землям в Литве и Южной Руси, отошедшим к ней в результате разделов, остававшимся в таком случае с пустыми руками Пруссии и Австрии пойти было трудно. Неприемлемо это было даже для Франции и Англии, потому что тогда самодержец необъятной России обосновался бы в середине Европы на Висле и Варте и стал бы нависать над ней. Поэтому русским требовалось найти подходящее название и способ захвата герцогства, а в этом Александр слыл искусным мастером.
Названием при захвате герцогства могло быть только Царство Польское, на создание которого Наполеон так и не решился. Теперь Александр озвучил эту идею своим союзникам и полякам. Их требовалось убедить в своей правоте и показать им, что польская территория русского раздела тоже войдет в это Царство. Поэтому, не дожидаясь согласия союзников, после оккупации Франции он уже в 1814 году призвал в Париж прибывшие в эту страну вместе с Наполеоном польские войска и провел их смотр в пригороде французской столицы Сен-Дени, сказав им: «Мы научились уважать друг друга на полях сражений».
Затем Александр отправил их вместе с Генрихом Домбровским в Варшаву под командование своего брата Константина для реорганизации. Это было сделано достаточно быстро, поскольку туда со всех сторон стекались бывшие солдаты и офицеры.
Для успокоения общественного мнения Запада требовалось также обозначить, что само Царство Польское будет жить самостоятельно и отделять Запад от России, что русский император, как польский король, будет править в нем иначе, чем самодержец российский у себя в России, то есть как конституционный монарх.
Ведь победа над Наполеоном была достигнута под лозунгом освобождения европейских государств и народов от его деспотизма и установления истинной свободы. Причем общественность на всем Западе осознала это сначала в Германии, для которой последняя война с Наполеоном являлась освободительной (Befreiungskrieg).
Свобода должна была просматриваться и в конституции, как в той, какую были вынуждены принять даже вернувшиеся во Францию Бурбоны. При этом возглавил данное освободительное и либеральное движение именно предводитель королей Александр I, завоевавший себе вследствие этого неизмеримое влияние и популярность на всем Западе. Поэтому, восстанавливая Польское королевство, он должен был дать ему конституционное правление, причем более либеральное, чем это гарантировала конституция Великого герцогства Варшавского.
Тем не менее получить согласие держав на Венском конгрессе на предоставление русским царям польской короны было непросто. И хотя еще до этого Александр взамен на свое обещание передать Пруссии всю Саксонию получил ее согласие, Австрия и другие страны не желали такого усиления пруссаков в Германии. Франция же и Англия, понимая, что передача Царства Польского под скипетр русского императора, несмотря на все конституционные гарантии, перенесет Россию в центр Европы, заявили о своей готовности согласиться на создание Царства Польского только при условии, что оно будет по-настоящему независимым и воссоздано в своих исторических границах.
В декабре 1814 года спор по польскому и саксонскому вопросам обострился настолько, что в воздухе снова запахло войной. Поэтому великий князь Константин от имени Александра I призвал в Варшаве польское войско к готовности пролить кровь во имя своей родины, на что в ответ оно потребовало ее восстановления.
Оппозиция на конгрессе, преднамеренно выставив неприемлемые условия, не смогла выиграть дело, потому что, пугая Австрию и Пруссию потерей польских провинций, толкала их в объятия Александра. Он воспользовался этим и заплатил за данные провинции тем, что отдал Пруссии из Великого герцогства Варшавского земли вокруг Познани, какие она жаждала заполучить для прямого соединения прусской Померании с Силезией, а Австрии вернул Тернопольскую область, которую выторговал у нее в 1809 году.
Однако Пруссия и Австрия не желали отдавать Краков, стремясь, каждый со своей стороны, сохранить его за собой. В результате Краков с его окрестностями был признан вольным и независимым городом, а вот Величка с ее соляными копями осталась за Австрией. Пруссия удовлетворилась получением половины Саксонии и Вестфальского королевства, а Австрия – уступкой ей Ломбардии и Венеции.
После этого в середине января 1815 года державы, принявшие участие в работе Венского конгресса, согласовали границы Царства Польского. Обрадованный таким решением Александр отправил соответствующее сообщение в Варшаву, а также известил об этом Костюшко, который, однако, не выразил ожидаемой благодарности, поскольку Александр не присоединил к Царству, как обещал, Литву.
Достигнутого согласия не нарушила даже высадка в марте на французскую землю покинувшего остров Эльба Наполеона и его триумфальное возвращение в Париж, которое вскоре закончилось битвой при Ватерлоо и его отправкой на остров Святой Елены.
Между тем 3 мая 1815 года по польскому вопросу вступил в силу договор между российским и австрийским императорами, договор между императором России и королем Пруссии, а также дополнительный договор между этими тремя державами, касающийся Кракова. Саксонский же король отказался от своих прав на Великое герцогство Варшавское.
Затем 9 июня все члены конгресса подписали его заключительный акт, объединив все индивидуальные договоры. А 26 сентября 1815 года, исходя из концепции поддержки правящих монархических династий и стремления подавить любые проявления революционного и национально-освободительного движения в Европе, был подписан акт об образовании Священного союза, в котором в основу международных отношений и управления государством был положен принцип веры, справедливости, милосердия и мира.
Договоры определили границу, отделявшую Царство Польское от той части, которая была передана прусским монархам под названием Великого герцогства Познаньского, сохраняли кроме вольного города Кракова южную границу Великого герцогства Варшавского и признавали, что Великое герцогство Варшавское в этих границах «будет неразрывно связано с Российской империей своей конституцией и вечно находиться во владении Императора Всея Руси, его наследников и преемников». Относительно же границы Царства с Россией было внесено чреватое последствиями положение: «Его Императорское Величество оставляет за собой право придать этому государству, имеющему отдельную администрацию, такое внутреннее расширение, какое он сочтет целесообразным». Дальше Александр пойти не решился, потому что российская олигархия была нацелена на простое включение Царства в состав абсолютистской России и была против отделения от нее территории польского раздела в пользу нового конституционного государства.
Впрочем, по сравнению с Петербургской конвенцией 1797 года о дополнительном разделе Речи Посполитой во всех решениях конгресса все же имелись определенные изменения. Тогда три властителя обрекли на вечную гибель не только польское государство, его народ, но даже само польское название страны. Теперь же, хотя и на небольшой площади, создавалось независимое польское государство, а существование польского народа признавалось в том числе и в тех районах, которые остались за пределами этого государства. Кроме того, в документах Венского конгресса было проработано такое устройство этого государства, которое должно было обеспечить его существование и развитие на всей его территории. Ведь в трактатах отмечалась необходимость сохранения «национального духа, торговых преимуществ и отношений, способных восстановить уверенность в управлении, порядок в финансовых делах, общее и личное благополучие каждого в провинциях нового ограничения».
В трактаты было внесено также положение о том, что «поляки, становящиеся подданными любой из высоких договаривающихся сторон, получат институты, которые обеспечат сохранение их национальности в тех формах политического существования, какие им сочтет возможным предоставить соответствующее правительство, под власть которого они перейдут». При этом монархи Пруссии и Австрии согласились на такое не только из-за того, чтобы выглядеть не хуже Александра, но и из опасения, что в противном случае Царство Польское получит притягательную силу в глазах поляков в Познани и Галиции. А такую опасность им хотелось отмести. Поэтому, не принимая на себя обязательств в пределах данных свобод, все три монарха, признав союз, призванный объединить польский народ в трех областях, зашли довольно далеко.
Если раньше тех помещиков, которые владели поместьями в нескольких областях, находившихся под управлением разных государств, заставляли оставлять свои владения только в землях, относившихся к одному разделу, то теперь им были предоставлены все права на собственность, располагавшуюся на территориях разных разделов. Кроме того, каждому жителю предоставлялось право приобретения собственности в другой стране на основании получения наследства, дарения, перерегистрации или в ходе заключения брака. Причем владельцы имущества в разных государствах, так же как и их доверенные лица, получили право на приобретение паспортов для проезда к своим владениям.
Кроме того, был разрешен «сплав», то есть плавание по всем рекам и каналам во всех частях старой Польши (в границах 1772 года) на всем их протяжении вплоть до устья, независимо от того, являлись ли те реки судоходными в тот момент или станут таковыми в будущем. Это относилось и к каналам, которые могли быть прорыты в дальнейшем. При этом право свободного пользования водными артериями предоставлялось всем полякам, независимо от их проживания в том или ином разделе. Такие же правила относились и к портам. Поэтому были отменены все сборы, кроме одного, являвшегося вполне умеренным и взимавшегося совместными уполномоченными на содержание рек и каналов.
Было также согласовано положение, которое гласило: «В будущем и навсегда между всеми польскими провинциями (в границах 1772 года) разрешить неограниченное обращение любых товаров сельскохозяйственного и промышленного производства с оплатой по единым тарифам пошлины, не превышающей 10 процентов от стоимости товара». При этом перевозимые товары должны были иметь местный сертификат. Транзитную же торговлю предусматривалось сделать совершенно свободной во всех частях бывшей Польши и облагать только самой умеренной пошлиной. Причем ее неизменная величина за торговлю и речные перевозки должна была устанавливаться специальными комиссарами на срок до шести месяцев.
Создавая на землях бывшей Польши новое небольшое царство, окруженное тремя польскими разделами, и сохраняя тем самым политическое разделение поляков, Венский конгресс закрепил тем не менее национальную и экономическую целостность польского народа. Однако, разрешая таким образом большой и трудный польский вопрос, он не дал никаких гарантий постоянства и даже, как выяснилось позже, создал способ, который невозможно было осуществить. Ведь признание народа в качестве национального и экономического целого, а не политического объединения неизбежно вело либо к политическому объединению, либо к национальному разделению. И было вполне предсказуемо, что народ будет стремиться к этому объединению, а разделяющие его государства станут прилагать усилия к еще большему разделению поляков в национальном и экономическом плане.
В своем стремлении к объединению поляки могли рассчитывать действительно только на польского короля, а также на российского монарха, но, чтобы добиться этого, они должны были глубоко озаботиться державными интересами России, связать себя с ее императором и народом. Возможно, до такого и дошло бы, если бы император и русский народ согласились присоединить к Царству земли, захваченные в Литве и Червонной Руси, потому что увеличившееся таким образом Царство нависло бы над Пруссией и Галицией, прокладывая путь к войне за присоединение захваченных ими территорий.
Однако Александр I не пошел на это потому, что не нашел поддержки со стороны своего народа. Но без такого полякам было трудно поддерживать отношения с Россией, ведь им мешали глубокие культурные различия между Западной Польшей и Восточной Россией. Конечно, некоторые наиболее смелые польские политики, такие как Любецкий, а потом и Велепольский, пробовали пойти по данному пути, но народ за ними не пошел.
Со своей стороны Россия, быстро вошедшая в противоречие с Царством Польским, не отстаивала решения Венского конгресса и не добивалась их выполнения в Великом герцогстве Познаньском и Галиции. После же польского восстания 1830 года она и вовсе присоединилась к Пруссии и Австрии в их политическом и национальном угнетении поляков. Но об этом речь пойдет позже.
Конституция Царства Польского
Для создания проекта конституции уже в 1814 году Александр I созвал особый комитет в составе четырех именитых поляков и одного русского по фамилии Новосильцев46, поручив ему приблизить органы управления и законодательство Великого герцогства Варшавского к национальным обычаям, а также проработать вопрос о реформировании сельских отношений. Когда работа была закончена, самый видный член комитета князь Адам Чарторыйский с ее результатами отправился на Венский конгресс, где в мае 1815 года Александр изложил ему «Принципы конституции», а затем отправил в Варшаву с манифестом, провозглашавшим Царство Польское.
Это было сделано в торжественной обстановке 20 июня. Тогда же объявили и правила, которые должны были применяться до провозглашения конституции.
Окончательную редакцию текста конституции с помощью Станислава Потоцкого и Новосильцева осуществил лично Александр I после приезда в Варшаву. Сама же конституция была объявлена 27 ноября 1815 года.
В ее основе лежал принцип, согласно которому Царство Польское считалось навечно связанным с Российской империей, а корона Царства должна была принадлежать Александру и передаваться по наследству его преемникам на российском престоле. При этом предусматривалось, что король этого Царства будет править в установленном конституцией порядке, назначая своего наместника, который станет проводить совместную с Российской империей внешнюю политику. Это подразумевало участие Царства в русских войнах, а также в мирных и торговых договорах. В дальнейших своих положениях конституция основывалась на конституции Великого герцогства Варшавского, но развивала и изменяла ее в двух направлениях.
Она расширяла гражданские свободы в либеральном направлении, предоставляя всем гражданам свободу вероисповедания, свободу печати, защиту прав всех, независимо от сословия и звания, право на детально определенное neminem captivabimus47, свободу личного перемещения вместе со своим имуществом, неприкосновенность собственности и рассмотрение дел только в компетентных судах. Польский язык вводился в органах власти, в суде и армии, а всем гражданам гарантировалось право на занятие любой должности. Однако равенство в гражданских и политических правах предоставлялось только лицам христианских вероисповеданий. Евреи же таких прав были лишены.
Конституция сохранила организацию сейма, расширила его законодательную власть по всем вопросам, но оставила принцип, согласно которому сейм имел право принимать только те законопроекты, которые предоставлял ему «польский царь». Она сохранила также Государственный совет под руководством наместника, который заседал либо в составе тесного круга одних только министров – так называемого Административного совета, либо в расширенном виде с участием всех его членов – Общего собрания. При этом наместник имел на них решающий голос, за исключением принятия подведомственных постановлений.
Зато конституция изменила административную систему, что соответствовало принципу «сделать ее более национальной и приблизить к конституции 3 мая» и стремлению разрушить под этим лозунгом продиктованную Наполеоном систему власти, чтобы она служила интересам государства, и создать на ее месте систему, отвечавшую интересам оседлого дворянства. Это и было сделано путем введения коллегиальности в работе министерств и префектур.
При этом министерства стали называться Управляющими комиссиями, состоящими из государственных советников и генеральных директоров, которые проводили совещания под председательством министра, которому оставили только исполнительные функции. Одновременно в работе комиссии, занимавшейся вопросами конфессий и народного просвещения, было предусмотрено участие духовенства, а в комиссии по делам юстиции – членов Верховного суда. Произошли изменения и в департаментах, которые теперь стали называться воеводствами. В них вместо префектур были введены правительственные воеводские комиссии, состоявшие из председателей и комиссаров. Причем исполнительная власть была в руках председателей.
Конечно, принцип коллегиальности органов власти делал эти учреждения менее энергичными и понижал их ответственность. Однако это упростило заполнение рабочих мест гражданами, которые в случае принятия единоличных решений не смогли бы справиться с поставленными перед ними задачами из-за отсутствия профессиональных знаний.
Создатели новой конституции уделили особое внимание заполнению должностей, поскольку профессиональная польская бюрократия, которая начала складываться во времена герцогства и привыкла только исполнять идущие сверху приказы, их не устраивала. Поэтому они внесли в конституцию положение о том, что «должности председателей судов первой инстанции, воеводских комиссий и апелляционных трибуналов, членов воеводских советов, кабинетов депутатов и депутатов сейма, а также сенаторов не могут быть доверены любому гражданину, а только землевладельцам».
Более того, при создании воеводских советов им было поручено осуществить отбор кандидатов «на судебные должности в первых двух инстанциях и проверить списки кандидатов на административные должности». При этом должностное лицо, окончившее высшее учебное заведение и посвятившее себя профессиональной деятельности, должно было понимать, что его положение и продвижение по службе зависят от признания его заслуг начальником, а также от доверия воеводского совета, какие, не имея соответствующего протеже, он может легко потерять. Тот же чиновник, который не являлся землевладельцем, претендовать на высшие ступени карьерной лестницы не мог.
Наряду с этим конституция уполномочивала воеводские советы «следить за благосостоянием» своих воеводств. Указом от 11 ноября 1817 года наместник придал этому положению широкое значение, поручив советам представлять правительству свои наблюдения и выводы, направленные на повышение благосостояния воеводства и его жителей в области сельского хозяйства, образования и деятельности благотворительных учреждений, хотя и не предоставил им даже толики исполнительной власти и права наложения каких-либо обременений или выплат без прямого на то разрешения верховных властей, что создало тем не менее определенные зачатки воеводского самоуправления. Кроме того, советам было предоставлено право сообщать правительству о любых злоупотреблениях со стороны гражданских и военных должностных лиц.
Важнейшим, пожалуй, изменением в административной системе являлось полное упразднение повятовых властей, введенных конституцией Великого герцогства Варшавского. По замыслу авторов новой конституции, это должно было сократить число чиновников и упростить администрирование вследствие ликвидации одной властной инстанции. При этом местные тминные органы управления подчинили непосредственно правительственным воеводским комиссиям.
В конституции значилось, что «для организации исполнения правительственных приказов конечными органами управления краем являются муниципальные учреждения в городах, а в каждой гмине – войт». При этом из указов, реализующих данное положение конституции, просматривается, что оно вытекало из замыслов упразднения свободы сельского населения.
Тем не менее конституция должна была улучшить положение самого многочисленного слоя в стране – крестьянства. Ведь правитель единственной на тот момент страны в Европе, где в полной мере процветало рабство, – России, с его либеральными наклонностями, стремился создать в Царстве для Российской империи не только модель конституционного правления, но и пример освобождения крестьян от крепостного права. Поэтому еще в середине 1814 года он создал комитет по реформам, призванный «выработать средства, чтобы улучшить судьбу крестьян и открыть им путь к постепенному обретению независимого существования».
Во главе этого комитета Александр I поставил Чарторыйского, а к его работе привлек решительных демократов, таких как Анджей Городиски. При этом Чарторыйский должен был действовать совместно с Любецким, который во временном правительстве Царства Польского владел портфелем министра внутренних дел. И именно от этих двух человек зависел успех всего предприятия. Ведь они прекрасно знали свое дело, поскольку никто лучше их не понимал, в какое смятение поверг правительство герцогства королевский указ от 21 декабря 1807 года.
Имелось много способов решить крестьянский вопрос, начиная от предоставления крестьянам права бессрочной аренды принадлежавшей им земли с определением обязательных повинностей и заканчивая передачей этой земли в полную собственность. Нужно было только выбирать между методами, но и быть готовыми к тому, что какую бы, пусть даже самую скромную, форму они ни избрали, им все равно пришлось бы столкнуться со стойким сопротивлением большинства помещиков.
Поскольку их взгляды разделяли не все, то эти два наиболее выдающихся политика нашли способ решить проблему с оппозицией со стороны шляхты, который позже стал образцом устранения неприятных дел. Им стал опрос – было решено проконсультироваться с самыми широкими кругами граждан в повятовых советах. Городиски составил вопросы и даже указал варианты ответов, а Любецкий разослал эти анкеты, и вскоре к ним хлынул ответный поток с заполненными опросными листами. В результате они получили реальную картину, отражавшую отчаянное положение сельских жителей с указанием множества способов борьбы со злом. Но на этом все и закончилось.
Начал работу Венский конгресс, который в первую очередь определил новую расстановку сил в Европе, а потом польская комиссия предложила один из вариантов разработанного ею проекта. Представленная ею конституция включала в себя только лишь положение о том, что «полезный и многочисленный класс крестьян в полной мере сохранит свою личную свободу, как и право приобретать земельную собственность. Ему будет оказана эффективная помощь и недорогое правосудие. Дух закона в его отношении будет особенно отеческим, что постепенно приведет его к реальному и прочному процветанию». Помимо права на личную свободу, которое крестьянам уже предоставила конституция герцогства, все это положение характеризовалось наличием общих фраз без конкретного содержания. Ведь при составлении конституции Царства Александру пришлось обойтись без проекта решения крестьянского вопроса и поэтому опустить его.
Тем не менее конституция Александра, на которого оказал влияние Чарторыйский, пошла в отношении крестьянства гораздо дальше, чем конституция Наполеона, на которого никто не повлиял. В новой конституции прямо отмечалось, что «закон распространяется на всех граждан независимо от сословий и званий». Она подчеркивала, что «никто не может быть наказан без решения компетентного суда, вынесенного в соответствии с действующим законом». На деле же крестьяне оказались под пятою войтов, помещиков и полиции, игравшей в том числе и роль низшей судебной инстанции при рассмотрении уголовных дел.
Конституция признала также за каждым поляком право свободного передвижения лично и со своим имуществом «в соответствии с формами, установленными законом», в чем уже содержалось определенное ограничение личной свободы, заявляя при этом, что «вся собственность, любого типа и наименования является священной и неприкосновенной». Далее же шло положение, согласно которому «власти в любом случае имеют право требовать от каждого уступки собственности в общественных интересах при предварительном справедливом вознаграждении; право определения формы и случаев, к которым может применяться вышеуказанное постановление».
В результате конституция этими положениями подтвердила принцип указа от 21 декабря 1807 года, в котором говорилось, что земли крестьян являются собственностью их панов, а если в общественных интересах эти паны вынуждены будут отказаться от данной собственности, то только на основании предварительного справедливого вознаграждения. Такое, естественно, затрудняло, если не закрывало пути урегулирования вопросов о бессрочной аренде и ренте, подталкивая их в направлении наиболее сложного способа решения путем полного выкупа, к чему после самых болезненных явлений страна и пришла через полвека.
Таким образом, самые серьезные польские политики того времени в интересах одного государства исказили административную систему, продиктованную создателем современной системы управления в Великом герцогстве Варшавском. Поэтому Царство Польское и стало отставать, когда соседняя Пруссия, осознав всю ценность такой системы, преобразовала свою общественную организацию, построив фундамент своей будущей мощи.