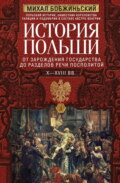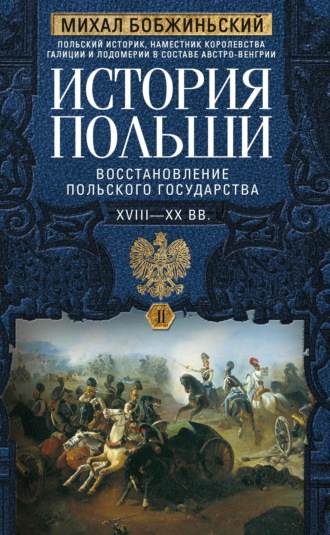
Михал Бобжиньский
История Польши. Том II. Восстановление польского государства. XVIII–XX вв.
Здесь следует заметить, что, хотя сама конституция, созданные на ее основе органы власти и изданные королевские указы соответствовали французской модели, в одном важном моменте они не могли ее придерживаться. Ведь польский народ, в отличие от Франции, не имел среднего сословия, сильного в промышленном и торговом отношении, а также получившего образование в магистратуре и армии. Крестьяне все еще оставались крепостными, на что правление Пруссии нисколько не повлияло. Не удалось также уравнять всех в политических правах, до которых большинство жителей еще не доросло.
В отношении Польши Наполеон согласился пойти на уступки, и в конституции Великого герцогства Варшавского деление населения на шляхту и остальных граждан с предоставлением преимуществ первой было сохранено. Но она же подняла и значение вторых. При этом шляхте давалось право на собрание в особых сеймиках и выбора на них по одному депутату. Всего предусматривалось иметь шестьдесят таких депутатов. Кроме того, за сеймиками закреплялось право выдвижения кандидатов на замещение должностей в советах департаментов и повятов, а также в мировых судах. Остальным же гражданам было предоставлено право избирать на тминных собраниях сорок депутатов сейма и подавать двойной список кандидатов в муниципальные советы.
Однако участвовать в тминных собраниях разрешалось только тем, кто обладал земельным наделом, если он не относился к шляхтичам, ремесленникам, имевшим челядь, крупным купцам, артистам и гражданам с выдающимися талантами в области коммуникаций или услуг, достигнутых либо в торговле, либо в ремесле, раненым и уволенным с военной службы или награжденным знаком почета унтер-офицерам и солдатам, а также всем офицерам, за исключением тех, которые не являлись постоянными жителями и составляли только гарнизон населенного пункта, где проходило собрание.
Тем не менее по королевскому указу, приводившему к исполнению эти положения конституции, участие в сеймиках разрешалось только оседлым шляхтичам и их сыновьям. Поэтому многие безземельные дворяне, если они подпадали под действие хотя бы одного из этих условий, отправлялись на тминные собрания.
Таким образом, хотя преобладание политических прав оставалось за оседлыми шляхтичами, признание за не относившимися к шляхте гражданами права избирать сорок депутатов, имевших в сейме равные права с членами палаты депутатов, по сравнению с конституцией 3 мая являлось большим прогрессом и более не провоцировало оппозицию. Ведь оседлая шляхта могла тоже добиваться избрания, и не без перспектив, на тминных собраниях, что она и делала.
Зато принятие четвертого параграфа конституции явилось настоящим камнем преткновения, поскольку он гласил: «Рабство отменяется. Все граждане равны перед законом. Имущество людей находится под защитой трибунала». По сути, данное положение означало отмену крепостного права и распространение на крестьян действия статей гражданского и уголовного права наравне с мещанами и шляхтичами, передачу их под защиту государственных судов и изъятие их из юрисдикции помещиков. В этом отношении оно пошло дальше, чем прусское обычное право (Landrecht), которое, отменив крепостничество как таковое, тем не менее сохранило зависимость крестьян, но предоставило им право на владение принадлежавшей им землей, четко определив связанные с ней обременения.
Однако в положениях конституции Великого герцогства Варшавского правовые отношения землевладельцев к земле, которой они владели и обрабатывали, не упоминались, поскольку это не определялось и Кодексом Наполеона, введенным в герцогстве другим положением конституции. Ведь во Франции еще до того, как Кодекс был издан, всем подданным было предоставлено право собственности на землю без всякого обременения. Такого конституция герцогства не предписывала, и поэтому польское правительство, претворяя ее в жизнь, заходить так далеко не требовало, хотя ему ничто не мешало признать за крестьянами право владения своей землей в качестве бессрочной аренды или даже эмфитевзиса31, как это было предусмотрено Кодексом Наполеона.
Обременения, связанные с владением землей уже освобожденными крестьянами, вполне могло определять и ограничивать правительство. На основании конституции имел такое право и король, которому предоставлялась возможность дополнять ее решениями (completer par des reglements32), принятыми в Государственном совете. Поэтому Фридрих Август, проявляя заботу о судьбе крестьян, призвал Государственный совет разработать такой проект, рекомендуя ввести по всей стране единые контракты крестьян с помещиками и облегчить фермерам выплату залогов, а также покупку недвижимости или предоставление ее в бессрочную аренду.
Однако сразу воплотить в жизнь свои намерения он не смог, так как члены Государственного совета в составленном ими проекте, попирая все юридические и экономические соображения, подчинились диктату шляхетского эгоизма. Но уже 21 декабря 1807 года с целью «уточнения и дополнения» четвертой статьи конституции вышел королевский указ, скрепленный подписями министра юстиции Феликса Любенского и министра иностранных дел Станислава Брезо, который дерзко разрубил этот гордиев узел.
Указ предоставил крестьянам свободу выезда из того места, где они до той поры проживали, и переезда в ту часть герцогства, в какую пожелают. Но при этом переселенец должен был вернуть помещику принадлежавшую тому землю и запасы, то есть инвентарь и посевные. Признавая личную свободу крестьян, указ не предоставлял им никаких прав на землю, если только они не имели ее в собственности или не обладали правом владения на многие годы на основе добровольного договора, а таких было очень мало.
Крестьяне были признаны обычными временными арендаторами, и им разрешалось свободно пользоваться землей сроком до одного года при условии, что они станут нести такие же повинности, что и раньше. Дальнейшее же их пребывание на этом или другом участке земли на бессрочной или временной основе зависело от добровольного соглашения с помещиком. При этом панщина и другие крепостные повинности сохранялись, хотя положения арендного кодекса этого не предусматривали.
В результате во время частичного возрождения своей отчизны крестьяне в герцогстве утратили все права на принадлежавшую им землю, в чем им не отказывало даже прусское обычное право (Landrecht). А ведь эти права основывались на вековых обычаях и часто на старых, заработанных вековым возделыванием определенного участка земли привилегиях для отдельных деревень, записанных в соответствующих описях. С этого момента в герцогстве они могли претендовать только на временную аренду, полностью завися в этом отношении от владельцев земли, то есть от своих бывших господ. Поэтому из-за страха оказаться выгнанными из своих ферм они должны были подчиняться условиям, продиктованным панами.
Однако в королевском указе никаких правил в этом отношении не содержалось. Властям лишь разрешалось принимать соглашения между крестьянами и помещиками и проверять, действительно ли они являлись добровольными. Лишив крестьян всех прав на землю, им также отказали в праве ограниченного пользования лесами и пастбищами, без которых они не могли заниматься сельским хозяйством, принудив их платить за них ренту или отрабатывать панщину, что чрезвычайно увеличивало лежавшие на них обременения.
В силу этого аграрные отношения на территории герцогства были в корне разрушены. Ведь многие помещики сгоняли крестьян с обжитых ими земель и передавали им худшие участки или поднимали величину повинностей. В результате нищета среди крестьян, усугубленная войной, достигла таких размеров, что многие из них, а именно те, кто не мог прокормиться на своем клочке земли, бросали насиженные места и отправлялись на поиски лучших, насколько это было возможно, для себя условий или наемной работы. В итоге многие земли опустели.
Тем не менее признание личной свободы крестьян явилось большим шагом на пути прогресса, что они высоко оценили. И все же указ о лишении их всех прав на свою землю был огромным регрессом, революционизировавшим крестьянские массы. И хотя винить за это конституцию и кодекс нельзя, нескольким последующим поколениям пришлось за такое тяжело расплачиваться. Однако, несмотря на это, польские холопы, призванные на всеобщую военную службу, густо усеяли своими костями поля сражений под Пултуском, Прейсиш-Эйлау33, Тчевом, Гданьском и Фридландом, на землях которых было основано первое польское государство после разделов Речи Посполитой.
Люди, стоявшие в то время у руля общественных дел, осознавали, что экономический прогресс является необходимым условием существования страны. Однако они не понимали или не имели смелости признать, что данному прогрессу мешало сохранение крепостного хозяйства. Им казалось, что этого можно достичь другим путем, о котором уже говорили депутаты четырехлетнего сейма и который пытались претворить в жизнь, правда совсем с иными целями, Пруссия и Австрия в захваченных ими польских землях, привлекая немецких колонистов. Причем опасность, исходившая из этого для польского народа, не казалась им слишком большой. Поэтому правительство герцогства тоже объявило, что для того, чтобы поднять сельское хозяйство, фабрики и ремесла, оно освобождает прибывающих из-за границы ремесленников на шесть лет от всех арендных выплат и сборов на военные нужды, а приезжающих из-за рубежа способных фабрикантов и ремесленников – от таможенных пошлин на ввозимое с собой движимое имущество и рабочий скот.
Эта политика в области промышленности в короткие сроки начала приносить свои плоды – иностранцы стали приезжать. Были созданы торговые дома и биржи, а торговля, а именно с Саксонией, возродилась и сконцентрировалась в городах. Под защитой таможенных тарифов кустарное производство превращалось в фабричное. Развивалась и горнодобывающая отрасль промышленности.
Приводя в порядок и реформируя всю сферу гражданского права, Кодекс Наполеона обошел законы о браке различных религиозных конфессий и заменил их собственным законом о браке, введя гражданские браки, разводы и общегражданскую правовую систему в брачных делах. Кодекс порвал с извечным католическим брачным правом, которое поддерживалось оккупационными властями, в том числе и прусскими.
Однако, когда епископы герцогства в 1809 году направили королю протест против гражданских браков и потребовали их отмены, а также запрета разводов и упорядочения церковных отношений по конкордату с Римом, правительство и общественность герцогства этого не поддержали. Просвещенный слой польского общества придерживался рационализма в вопросах веры, области чувств и помыслов. К тому же власть в Великом герцогстве Варшавском находилась в руках масонов, которых после смерти Малаховского34 в 1809 году возглавил великий магистр Польского Востока Станислав Костка Потоцкий35. Они и не думали бороться с положениями Кодекса Наполеона о гражданском браке. Им вполне хватило того, что, прикрываясь этим кодексом, они отменили бессрочную аренду земли крестьянами.
Кампания 1809 года
В первые годы существования Великого герцогства Варшавского польское общество не понимало и не ценило того факта, что оно, по крайней мере на небольшой территории, добилось создания собственного государства со своим правительством, армией, образованием и национальным языком в общественной жизни, получив полную свободу народного развития. Вместо этого поляки разрушали данный образ, подчеркивая его отрицательные стороны.
Они принижали значение возникновения герцогства, критикуя его за то, что оно не охватывало всю территорию Польши, не имело, на их взгляд, названия в польском духе, а его система не отвечала традициям четырехлетнего сейма. По их мнению, эта система не обеспечивала политическую свободу и нарушала своим французским кодексом церковные устои, способствуя нарастанию народного возмущения, прежде всего из-за непомерных поборов на содержание многочисленной армии.
Одни возмущались тем, что Наполеон в качестве поощрения якобы раздал своим маршалам чересчур много королевских поместий, доходы от которых могли бы облегчить налоги. Другие же, игнорируя то, что польский язык вновь стал государственным, а власть возвращена полякам, утверждали, что ничего не изменилось. Это они аргументировали тем, что в Польше стоял французский оккупационный корпус, а правительством руководил резидент Франции, как некогда России, и всем распоряжался не герцог Варшавский, а Наполеон.
Помимо этих обвинений, служивших проявлением симптомов отсутствия патриотизма и политического чутья, были, однако, и более чем обоснованные претензии, игнорирование которых действительно могло разозлить людей. Дело заключалось в том, что по конституции армия герцогства, не включавшего в себя Поморье и Белостокский округ, определялась численностью в 30 000 человек. А поскольку поддерживать такую численность после разрушения страны войной, несмотря на все усилия, было трудно, то Наполеон взял на свое жалованье одну дивизию и кавалерийский полк.
До поры до времени он держал этот полк при себе в Париже, а дивизию под командованием Хлопицкого как так называемый Вислинский легион в 1808 году направил для подавления восстания испанцев, приказав поддерживать его численность в 8000 человек и осуществлять пополнение по мере понесенных потерь за счет герцогства. Так поляки должны были отплатить ему за создание герцогства, что они и сделали, приняв участие в кровавой битве Хлопицкого при Эпиле, осаде Сарагосы и яростной кавалерийской атаке полковника Козетульского в ущелье Сомосьерра испанского горного массива Сьерра-де-Гвадаррама.
Сложнее объяснить то, что при подписании Тильзитского мирного договора Наполеон выторговал переписать на себя, а не на герцогство векселя по займу, который прусское правительство предоставило под залог польских поместий, а когда из-за изменения цен и снижения стоимости собственности сумму по данному залогу, составлявшую первоначально сорок миллионов, оказалось трудно взыскать, то по соглашению, заключенному с уполномоченными герцогства во французском городе Байонна, он заставил герцогство выкупить у него эти векселя за двадцать миллионов.
А ведь экономическое положение герцогства с самого начала являлось отчаянным. Потери от уничтоженного в ходе военных действий сельского хозяйства увеличились вследствие навязанной Наполеоном континентальной блокады. Введенная Англией против герцогства во время войны с Францией, она перекрыла вывоз польского зерна за границу. Серебро же, переплавленное даже из церковной утвари для чеканки монет, пошло на военные нужды, а кредит за рубежом взять не удалось. К тому же выпущенные без обеспечения бумажные деньги с каждым днем все больше обесценивались.
Таким образом, у герцогства практически не было возможностей для борьбы, хотя оно с большим трудом, но все же эту борьбу продолжало. Однако его министры ничего не могли противопоставить противодействию недовольных в своих ведомствах. Органы власти не боролись ни против правящего короля, ни против оппозиции. А вот оппозиция, состоявшая из отстраненных от должности радикальных элементов и организованная в союз «республиканцев», с правительством боролась. При этом она с самого начала защищала конституцию и Кодекс Наполеона от нападок со стороны духовенства и шляхты и пользовалась поэтому поддержкой маршала Даву и французского резидента Серри. Но ненавидевший республиканцев саксонский король взял своих министров под защиту и оградил их от гнева Наполеона. Тогда оппозиция бросилась в другую крайность и стала ругать все то, что она прежде хвалила. Причем в нее входили люди, которые уже раньше угрожали легионам, и среди них были такие же одаренные, как коварный Шанявский.
В общественном мнении тоже царила странная неразбериха. Причем разочарование преобладало настолько, что перед заседанием первого сейма герцогства в марте 1809 года Коллонтай вспомнил о своих письмах Малаховскому, в которых излагал программу для четырехлетнего сейма. Теперь он повторил ее уже в брошюре под названием на латинском языке «Nil desperandum» («Нельзя отчаиваться»), в которой, объективно изображая политическую ситуацию, пытался оживить дух «всех тех, кто воображает, что все должно оставаться таким, каким оно есть, и что ошибки, которые мы сейчас совершаем, никогда не удастся исправить».
В ней он защищал и новую конституцию, демонстрируя ее превосходство над конституцией 3 мая, а также Кодекс Наполеона и его социальные реформы, доказывая, что французская опека над герцогством является крайне необходимой и оправданной жертвой во имя родины: «Возможно, нынешнее поколение прольет на родную землю море слез, оплакивая тех, кто, собрав последние силы, пожертвовал собой, но будущие потомки с радостью и благословением пожнут обильные урожаи, выросшие из тех зерен, которые они посеяли».
Это успокоило людей, способствуя прекращению жалоб и сомнений. Поэтому первый сейм герцогства, собравшийся 9 марта 1809 года в Варшаве, их не обсуждал, и оппозиция в лице нескольких республиканцев не смогла ничего с этим поделать.
Едва завершилась работа сейма, началась война Австрии против Наполеона – дважды поверженная, она решилась попытать счастье в третий раз, но на этот раз без Пруссии, еще не оправившейся от поражения, и без России, связанной дружественными отношениями между Наполеоном и Александром I. При этом Австрия выступила не только против Наполеона, но и против его детища – Великого герцогства Варшавского, в котором она видела угрозу для своей Галиции.
Сорокатысячный австрийский корпус под командованием эрцгерцога Фердинанда36 14 апреля 1809 года перешел близкую тогда от Варшавы границу Великого герцогства Варшавского и направился к Варшаве, поставив герцогство в крайне трудное положение. К тому времени французский корпус маршала Даву покинул его территорию, а дивизия под командованием Хлопицкого сражалась в Испании. Часть польского войска по приказу Наполеона охраняла Гданьск и прусские крепости, еще остававшиеся во французских руках. Наполеон распорядился также разместить гарнизоны в только что построенных или улучшенных цитаделях Польши – Праге, Модлине37, Торуне и Ченстохове. В результате из тридцатитысячного польского войска в бой могли пойти едва двенадцать тысяч.
В сражении принял участие также небольшой отряд саксонских войск, размещавшийся в Варшаве. Командовал польскими войсками князь Юзеф Понятовский, а начальником его штаба был одаренный офицер, прошедший армейскую школу в легионах, генерал Станислав Фишер.
Бой предстоял слишком неравный, но князь Юзеф его принял. Ведь поляки встали на защиту своей страны, и им, даже в том случае, если все они падут в сражении, требовалось остановить продвижение австрийского корпуса и удерживать позиции до тех пор, пока гений Наполеона не покончит с войной на других полях сражений. Поэтому 19 апреля 1809 года князь Юзеф бесстрашно выступил против австрийцев у Рашина на окраине Варшавы и после целого дня ожесточенных боев, потеряв две тысячи человек, заключил с эрцгерцогом Фердинандом договор, по которому отдал ему Варшаву, а сам отступил на правый берег Вислы.
Там возле Грохова и Гуры он отразил вылазку австрийцев в Прагу и, оставив генералов Домбровского и Зайончека защищать переправу через Вислу, двинулся вверх по ее течению и последовательно занял Люблин, Сандомир, Замость, Львов, а 15 июля Краков. В авангарде этого победоносного похода, прокладывая дорогу основным силам, шел генерал Михал Сокольницкий.
В свою очередь, отрезанный от своей оперативной базы эрцгерцог Фердинанд из-за угрозы начала восстания, подготовка к которому шла благодаря генералу Домбровскому, прекратил осаду Торуни, куда перебралось польское правительство из Варшавы.
Покинув Варшаву, эрцгерцог отступил и по пути захватил сильно защищенный Сандомир, а затем Львов. Домбровский же собирал силы в районе города Кельце, готовясь к битве за Краков, когда пришло известие о том, что Наполеон наголову разгромил австрийскую армию при Ваграме, положив тем самым конец войне с Австрией и на польской территории.
Поляки ожидали, и это казалось вполне естественным, что обе Галиции будут присоединены к Великому герцогству Варшавскому и возникнет, правда без Литвы и Пруссии, но доходящая до Карпат сильная по своей территории и населению, способная за себя постоять Польша, которая будет развиваться уже самостоятельно. Однако этому помешал приятель Наполеона Александр, принявший участие в войне на его стороне. Он послал в Галицию корпус русских войск под командованием князя Голицына, который уклонялся от боев с эрцгерцогом и даже пытался опередить князя Юзефа в занятии Кракова. Причем от города его заставила отступить только возникшая угроза боевого столкновения.
Тем не менее при заключении мира с Австрией в Вене Наполеон был вынужден считаться с мнением русского императора. А на создание из герцогства и обеих Галиций Королевства Польского Александр не соглашался. Однако, поскольку сражавшихся с австрийцами поляков требовалось чем-то вознаградить, он разрешил присоединить к герцогству только так называемую Западную Галицию вместе с Краковом, Люблином и Замосцким районом. Величка же с ее соляными копями осталась в совместном владении герцогства и Австрии. При этом бывшая Галиция, образованная во время первого раздела Речи Посполитой, должна была сохраниться у Австрии, поскольку все три государства, осуществившие разделы, сохраняли свои польские территории. На такое расширение герцогства Александр согласился, и то только после торжественного уверения Наполеона в том, что о дальнейшем его расширении не будет и речи. Приязнь же Александра к Австрии выразилась в уступке ей Тарнопольского края из состава бывшей Галиции.
При всем этом кампания 1809 года оказала неоценимое влияние на дух польского народа, который он утратил в войне 1792 года и во время восстания Костюшко. И если в войне 1806 года поляки просто помогали французам, то в кампании 1809 года они уже участвовали как самостоятельная сила. Конечно, им не удалось одержать победу над неприятелем, но и победить себя поляки не дали. В своей армии польский народ обрел важнейший инструмент обеспечения независимости государства, в котором сосредоточились все самые лучшие его чувства, помыслы и силы.
Для народа, которому было еще очень далеко до создания нормального политического и общественного устройства и который еще не имел четкого понимания реальной политики, появление собственной армии явилось хорошей школой. В ней он учился отдавать и исполнять приказы. Именно в ней, основывавшейся на обязательной и всеобщей службе, стирались различия людей, существовавшие по их рождению и владению имуществом. Даже те массы крестьян, которые под влиянием указа от 21 декабря 1807 года и всеобщей нищеты покидали свои земли, нашли в армии определенное прибежище и условия существования. Поэтому возрождение нации началось не в результате парламентской борьбы и государственных переворотов, а вследствие создания храброй армии и появления того здорового духа, какой она порождала вокруг себя,
Война 1809 года, хотя ее результаты и не отвечали ожиданиям, высветила фигуру князя Юзефа Понятовского, но и в ходе своего развития показала, насколько еще малого прогресса в понимании современной политики добился польский народ. Оппозиция из числа республиканцев подняла голову и с началом кампании сразу же стала использовать любую возможность для захвата власти в стране. Причем неосознанно способствовал ей в этом Фридрих Август.
Накануне войны председателем Государственного совета и одновременно Совета министров он назначил одаренного и просвещенного Станислава Костку Потоцкого, но ни ему, ни Совету министров не доверял настолько, чтобы предоставить им в свое отсутствие более широкие полномочия. Поэтому Фридрих Август передал их более крупному органу – Государственному совету, где государственные советники заседали вместе с министрами. Но это не прибавило уважения правительству, которое обвиняли в нехватке энергии. Тогда французский резидент Серра зашел так далеко, что с помощью оппозиции захотел подчинить себе правительство, для чего задумал использовать созданный в Варшаве для ее обороны директорат и распространить его власть на всю страну. После же оставления польской армией Варшавы он попытался сформировать правительство в городе Тыкоцин. В свою очередь, министры, не пришедшие к единому мнению, стоит ли им оставаться в Варшаве, где они могли превратиться в игрушку в руках австрийцев, переехали в Торунь, а затем в Тыкоцин.
Не лучше обстояли дела и в Галиции, где князь Юзеф учредил Центральное правительство под руководством владельца майората Станислава Замойского. Причем этот Замойский решил править сам, опираясь на постановления четырехлетнего сейма, а поэтому быстро вступил в столкновение с армией и князем Юзефом, который, невзирая на свои политические убеждения, тоже пользовался услугами варшавских республиканцев и даже доверил одному из них, а именно Городискому, вопросы снабжения войск.
При этом князь Юзеф взял гражданскую власть в свои руки и осуществлял ее с помощью военных не только в Галиции, но после отвоевания Варшавы и во всем герцогстве. Причем против такого военного правления поступали многочисленные жалобы, главным образом на расточительность и чрезмерные поставки.
Недовольные сгруппировались вокруг Замойского, а когда князь Юзеф не принял Коллонтая, докучавшего ему своими советами, тот обиделся, отправился к Замойскому и по договоренности с ним предъявил обвинение Понятовскому, которое Замойский передал королю. Между тем у Фридриха Августа были основания обижаться на князя Юзефа, который, возгордившись своей победой, полностью игнорировал находившегося вдали от полей сражений короля, не передавал ему приказы на подпись и не упоминал его имя в своих приказах. Однако королю, отстранившемуся от войны, было трудно бороться с победившим в ней лидером.
Окончание войны и решение о присоединении к герцогству Западной Галиции не положили конец этому разладу – возник новый вопрос о том, на каких основах осуществить присоединение этой территории, которая более четырнадцати лет развивалась отдельно от Польши. При этом поляки из Галиции выдвинули идею о создании комиссии в составе шести членов – по три из герцогства и Галиции, которая бы занялась данным вопросом и разработала бы необходимые изменения в конституции.
Предложение было вполне естественным, но в тех условиях это привело бы к бесконечным и безрезультативным совещаниям, так как на них сторонники конституции 3 мая без Поланецкого универсала выступали бы против конституции герцогства и Кодекса Наполеона. Хорошо еще, что король под влиянием Наполеона пресек эти попытки, 7 декабря 1809 года своим указом присоединил Галицию к герцогству и, распустив временное правительство, подчинил его министрам герцогства и его Государственному совету. Распространив другим декретом конституцию герцогства на присоединенные территории, он создал четыре новых департамента, увеличив число дворянских депутатов на сто, депутатов тминных собраний на шестьдесят шесть, а сенаторов на тридцать человек.
В 1810 году Государственный совет получил детально продуманную внутреннюю организацию всех отделов по направлениям их работы.