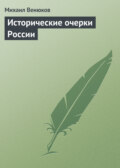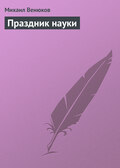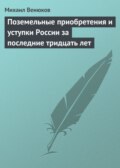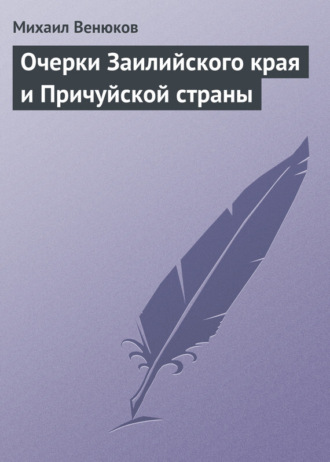
Михаил Венюков
Очерки Заилийского края и Причуйской страны
Змеи и ящерицы оживляют степь там, где есть поблизости камыши и вода, тогда как ядовитые насекомые преимущественно водятся на совершенно сухих местах. Часто я видал змей, до половины высунувшихся из норы и в этом положении гревшихся на солнце. Киргизы с ожесточением преследуют их, справедливо опасаясь укушения ими скота. Должно заметить, что если на северном склоне Алатау встречаются довольно часто змеи, то на южной покатости кряжа и особенно в долине Чу находится настоящее царство фаланг. С песчаных берегов Или они переходят по сухой степи на запад от Кастека к Курдаю и Дала-Кайлару, а оттуда распространяются как на запад по голодной степи Бетпак-Дала, так и на восток до Кебина. В горах, где благодаря большей влажности воздуха трава не выгорает от солнца, да и в долинах, где тоже условие соблюдается вследствие орошения, фаланг нет; поэтому и останавливаться на ночлеги надобно предпочтительно на этих местах.

Дикокаменной орды манап Байназар Турумтаев. Рис. А. Померанцева. 1851
V. Переход чрез Алатау. Чу. Неудачная стычка
От Кастека, где мы стояли с неделю, идет несколько дорог к Чу, чрез Алатавские горы. Первый, самый неудобный проход есть Суок-Тюбе, он ведет диким скалистым ущельем вверх по речке Кастеку, потом раздвояется. Одна дорожка идет на ручей Карабулак, а другая на Каракунус. Этим путем ходят караваны, когда за прибылью воды в Чу им бывает нужно переправляться через нее выше Токмака. Другой путь, более удобный, ведет по ручью Биш-Майнаку, через верховья ручья Джаманты, и потом тоже выходит на Каракунус против Токмака: эту дорогу мы избрали для наших движений. Быстро взошел отряд по крутому восемнадцативерстному подъему на вершину гор и 26 мая перевалил через хребет, оставив ниже себя во многих местах не тронутые еще солнцем снега. Я измерил при этом высоту горы при истоке Джамантов и нашел, что она достигает 7450 ф. над морем. Вид отсюда величественно прекрасен и надолго остается в памяти. Непрерывный, зубчатым валом тянущийся хребет Киргизнын-Алатау стоит на первом плане. За восточным его концом, в большей отдаленности, не менее как в полутораста верстах, изумительно ясно виднеются вершины Небесных гор, соседние Иссык-Кулю. Внизу, под ногами зрителя, лежит долина Чу и вьется пенящаяся полоса самой реки, одетая зеленью камышей. Крепостца Токмак [Это было в 1859 г. Теперь Токмак не существует.] кажется небольшим домиком или хутором в междугорной степи. Сквозь синеву атмосферы еще и на крайнем западном горизонте просвечивают снеговые пики Киргизнын-Алатау; долина Чу видимо расширяется к западу.
Когда через 47 верст похода в горах, совершенного по узкой тропинке, мы наконец спустились в эту долину, нас встретила местность до крайности грустная. Вся трава по низменности уже выгорела, и надобно было скот отогнать в ущелья, чтоб дать ему поправиться от утомительных переходов. Нигде по сторонам не видно было аулов и стад, и только временами кое-где появлялись одинокие вооруженные всадники, наблюдавшие за нашим отрядом. Я старался осмотреться в новом краю, куда до меня проникали немногие европейцы, и скоро узнал, что мы стоим близь места, где был убит известный в летописях степей Кенисара Касимов. Этот мятежник долго волновал наших киргизов в сороковых годах текущего столетия и кончил свою жизнь тем, что сложил на берегах Чу, близ устья Каракунуса, свою голову, которая была возима в Копал и Ташкент. Загнанный русскими отрядами на крайний юг степи, он встретил здесь новых противников – кара-киргизов, и ими был погублен окончательно. Своим коварным поведением и беспрерывными хищничествами Кенисара до того успел ожесточить всех своих противников, что дикокаменные с живого его содрали кожу, а тело потом сварили в котле. – Правительство наше изъявило свою признательность главному виновнику истребления мятежника, манапу Урману, возведением его в чин подполковника, а других участников в битве у Кеклик-Сенгира наградило двенадцатью золотыми медалями. Вскоре по смерти Кенисары, в 1847 г., посетил Алатауский край топограф Нифантьев и составил первую его карту. Это было начало знакомства нашего с местностями, прилегающими к Небесным горам и Кокану.
Для нас стоянка у Каракунуса была не совсем удачна. Находившиеся при отряде киргизы, узнав, что толпа дикокаменных, побывав в их аулах, возвращается назад и будет переправляться чрез Чу у Кеклик-Сенгира, захотели во что бы ни стало пощипать хищников. По малочисленности ордынцев сравнительно с дикокаменными, которых было до 500 человек, можно было заранее предсказать неудачу, и потому пришлось подкрепить мстителей полсотней казаков. Но азиатское нетерпение испортило дело прежде, чем казаки успели прибыть к месту стычки. Один султан, один батырь и три джигита попались в плен. Кроме их, одному из киргиз прокололи насквозь грудь, так что пика, войдя в спину, прошла чрез легкие и переломила одно из передних ребер, которое торчало вперед. Удивительно, что этот киргиз не только остался жив, но через двое суток уехал к себе в аул, верст за восемьдесят, и меньше чем через месяц снова разъезжал преспокойно, как ни в чем не бывало. Происходит ли эта способность переносить раны от умеренности азиатцев в пище во время похода, или таково свойство турецких племен вообще, или, наконец, приемы степной хирургии так хороши, что скоро залечивают раны, – я не умею сказать.