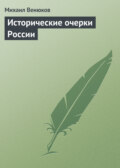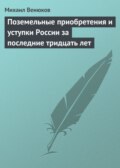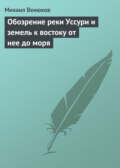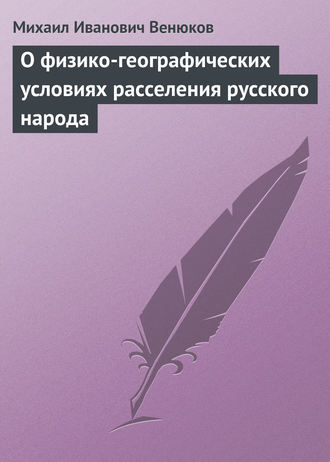
Михаил Венюков
О физико-географических условиях расселения русского народа
Третье невыгодное для русского народа обстоятельство, вытекающее из континентальных свойств климата страны, это сравнительная малость количества питательных произведений почвы. Целые полгода или, чтобы быть точнее, от 5 до 7 месяцев, земля у нас не производит ничего, оставаясь покрытою снегом между тем, напр., в окрестностях. Парижа и Лондона свежие овощи не переводятся крупный год, а в более южных частях западной Европы удается собирать и с полей по две жатвы. И какие бы усилия не употреблял русский человек для обработки родного поля, сколько бы удобрения ни клал на него, он никогда не достигнет средних урожаев равных не только ломбардским, но даже нормандским. Его десятина, равная 1,07 гектара, может дать ему случайно, в одно лето, не менее продуктов, чем, средний французский гектар; но возьмем 5–6 лет сряду, и, в результате получится отношение 1:3 или, до крайней мере, 1:2,5 в пользу Франции, где земля остается непроизводительною лишь с ноября по конец февраля и редко до половины марта н. ст.
Мало того, краткость лета в России приводит еще к тому, что на это время года, т. е. на 5½ месяца, в апреля по сентябрь, выпадают всевозможеные полевые роботы, тогда как во Франции, Англии, Венгрии, Румынии, не говоря уже про Италию, можно пахать поля в феврале, а виноград убирать в конце октября. Труд селянина там разделен на восемь месяцев, т. е. на время в полтора раза большее, чем у вас. А это обстоятельство позволяет, напр., французскому крестьянину быть исключительно земледельцем, работать не торопясь, тщательно, и не отвлекаться уже другими занятиями, в которых он не силен и для производства которых нужно либо самому иметь особые орудия, либо ходить каждую зиму на сторону, во временную кабалу к заводчику либо торговцу, которые, разумеется, дают за работу лишь ровно столько, чтобы работник не умер с голода[9].
Пагубные для растительной жизни засухи, как известно, нигде, в целой Европе, не случаются так часто, как у нас, и они зависят опять от таких физико-географических условий нашей родины, с которыми бороться трудно, чтоб не сказать невозможно. Если бы за Уралом расстилался не обширный материк, а океан, Россия была бы одною из благодатнейших стран умеренного пояса и напоминала бы Соединенные Штаты или хот Амурский бассейн, с Маньчжуриею и частью Кореи. Но за Уралом тянется огромная площадь земель пустынных то от крайнего холода, то от чрезвычайной сухости, доходящей до 0,13 водяных паров в атмосфере, тогда как западная Европа имеет их от 0,60 до; 0,85. С этих сухих и холодных зауральских пустынь воздух, повинуясь общим законам земной физики, движется к юго-западу, в более теплые при-атлантические страны и, проходя над русскою землею, не только охлаждает, но и иссушает её почву. Академик Веселовский очертил полосу, где восточные ветры являются в европейской России господствующими. Его указания, за малыми разве, чисто местными исключениями, несомненно точны, обоснованы на более или менее продолжительных наблюдениях, и его карта ветров показывает, что под иссушающим влиянием Азии находится около одной трети страны. При этом названная треть – лучшая по географическому своему положению на юге, а не на севере. В состав её входят не только астраханская и заволжские губернии, но и ставропольская, саратовская, области: терская, кубанская, донская, губерния: воронежская, харьковская, екатеринославская, таврическая, херсонская, отчасти тамбовская, курская, полтавская, киевская, подольская и бессарабская. Если бы на поверхность этих провинций падало в год 5–6 дюймов воды более нынешнего, или даже если бы атмосфера их только содержала на 20–30 % более влажности, чем теперь, – какую бы благодатную страну представляли они! А теперь местный русский крестьянин и даже крупный землевладелец, имеющий средства хорошо удобрять землю и косить в степях огромное количество сена, часто (приблизительно в 4 года раз) не успевает, благодаря засухам, собрать посеянного зерна или наносить травы, нужной, чтобы прокормить скот до следующей весны. Одной зимы бывает достаточно, чтобы весь этот скот вымер с голоду или был продав за бесценок, после чего все хозяйство приходит в упадок. Засухи вообще – главный бич юга-восточной России, и она от них не избавится до тех пор, пока не решится на великий технический подвиг, сходный с прорытием Суэцкого канала и противоположный тому, который сделали голландцы, выкачав воду из Гарлемского озера. Мы уже намекали на сущность этого подвига: нужно избыток воды в Черном и Азовском морях, уходящий через проливы: Керченский, Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, повернуть на восток, в Каспийское. Но когда это будет, и будет ли вообще? Конечно, водораздел в 17 сажень над морем, существующий между Манычем и Кумою, не великая гора, срыть ее можно, равно как углубить до нужной степени русла обеих рек; не где необходимые для работ денежные средства, где, наконец, прочное сознание людьми влиятельными пользы самого предприятия? Мы начали осушать Полесье и долину Кубани; но обводнить какую-либо местность у нас еще никто не решался. Мало того, самая мысль о прорытии кумо-манычского канала, основанная на фактах, добытых Бергштретером, Блюмом, Данивым и др., подвергалась насмешкам в некоторых даже soi-disant ученых кругах….
Мы коснулись, таким образом, важнейших постоянных явлений, совершающихся в воздухе, который покрывает европейскую Россию, явлений, которые имеют огромные влияние на развитие органической жизни в стране, а следовательно, и на быт человека. Мы видим, что все главные метеорологические условия жизни в России менее выгодны, чем в западной Европе. Но не одни эти условия влияют на судьбы человеческих обществ, занимающих ту или другую часть земной суши. В ним присоединяется иного других влияний, чисто топографических и способных то усиливать значение климата для исторической жизни народов, то ослаблять и видоизменять его. Знаменитый основатель сравнительной географии, Б. Риттер, с рассмотрения этих-то именно топографических условий и начал построение своей науки. Африка, заметил он, лежит под самыми благодатными широтами, но, тем не менее, есть самая неудобная для человеческого развития часть света, потому что доступ в глубь её труден от недостатка глубоко-вдающихся в материк. морских заливов. её береговая линия относится в её поверхностному протяжению в милях как 1 к 106, т.-е., в ней на одну милю берега приходится не менее 113 кн. миль пространства, тогда как в Европе это отношение равно 1:37, что втрое выгоднее. Если взглянуть с этой точки зрения на европейскую Россию, то получится отношение очень недалекое от африканского, именно 1:101. И притом, каковы моря, окружающие Россию? Северный океан с Белым морем и другими заливами открыт для мореплавания не более 135 дней в году, Балтика, в среднем выводе, около семи месяцев, Каспий – девять, и только южная его часть. и Черное море, да и то последнее не повсеместно, остаются открытыми круглый год. Балтийское море при этом отрезало от океана проливами, находящимися в рунах чужеземцев, Черное – также, а Каспийское есть внутреннее озеро, которое ведет лишь в разоренную Персию и в совершенно пустынную Туркмению. Таким образом, моря русские почти вовсе не облегчают вступление русского народа на всемирно-историческое поприще, торговое и политическое. Напротив, благодаря несчастливому их положению, Россия постоянно находится и, вероятно, еще долго будет находиться в зависимости от произвола морских наций. С другой стороны, её сухопутные границы совершенно открыты для вторжения неприятелей с запада и с востока, и неприятели этим воспользовались. На западе, вот уже девять веков сряду, с неотразимою последовательностью оттесняет или даже заливает единокровные русскому народу славянские племена волна германизма; с востока Русь была в течение многих столетий, опустошаема печенегами, половцами, хазарами и монголо-татарами, из которых последние владели русской землею 240 лет и своим владычеством наложили на русский народ доселе не вполне еще изглаженные следы азиатских обычаев и порядков.