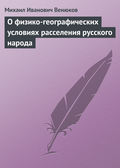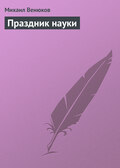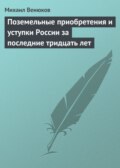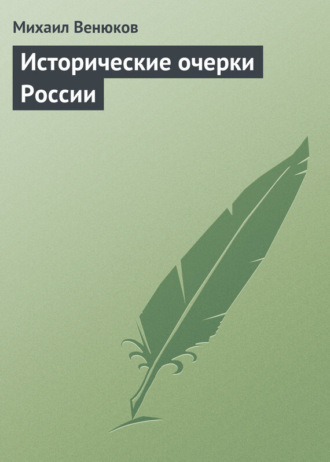
Михаил Венюков
Исторические очерки России
Политическое объединение окраин
Сделать завоевание легко, но удержать его трудно: нужно уменье.
(Политическая аксиома)
Вопрос о колонизации окраин, на котором мы остановились в предыдущей главе, приводит нас к необходимости сделать общий очерк и других средств прикрепления последних к основному государственному ядру. Этих средств много, начиная с самых материальных, вроде устройства укреплений и путей сообщения, и кончая чисто идеальными, вроде установления единства в гражданских правах, в образовании, нравах и политических симпатиях населений. Задача наша, поэтому, очень обширна и могла бы стать предметом особого сочинения; но мы коснемся здесь только самых главных сторон ее, и притом исключительно с политической точки зрения, отвечая на вопрос «Что совершилось, в течение 1855-78 годов, важного для объединения или будущего отпадения окраин?», разумея при том под словом «объединение» не русификацию, для многих частей государства едва ли возможную, а только более или менее тесную политическую связь, в поддержании которой есть интерес и для исконной России, и для страны, приобретенной ею извне.
Начнем, в географическом порядке, с Финляндии. Страна эта, как известно, отторгнута русским оружием от Швеции и не имеет для России другого значения, как стратегического гласиса по отношению к Петербургу; так что не будь последний столицею России, никогда, конечно, ни одному русскому не пришло бы в голову присоединять обширный, но бедный от природы и чуждый по народности край. Петр Великий, который основал Петербург, поэтому и не заботился идти к северо-западу от него далее Выборга; Екатерина, несмотря на победы над Швециею, не отняла у нее ни клочка финской земли. Но завоеватели вроде Александра I, честолюбивые романтики, воображавшие себя великими политиками, но в сущности не понимавшие выгод своей нации, нашли нужным завоевать Финляндию до Торнео. Мало того; тот же Александр, любивший рисоваться перед Европой либерализмом, создал из Финляндии отдельное от России государство, которого только «престол неразделен с престолом Российской Империи». Он, управлявший по-аракчеевски своим собственным народом, нашел нужным иметь в Финляндии сейм народных представителей; и хотя это тоже была комедия, потому что скоро сейм перестал созываться, но тем не менее и в сознании финляндского народа, и в его государственном праве осталось неизгладимым положение, что Финляндия только имеет своего великого князя в лице русского императора, но с Россиею ничем другим не связана, и по политическим правам своим стоит выше ее. Особенно убедительным доказательством последнего являлось то, что, смотря на империю как на крепостное имение, Александр I оторвал от нее то, что было присоединено Петром и его дочерью, и отдал в состав нового княжества. Таким образом вопрос о прикреплении Финляндии к России был в самом начале поставлен на очень своеобразную почву, и можно сказать, что эта почва приготовляла не объединение, а распадение двух государств. Николай I, довольный тем, что финляндцы «сидят смирно», т. е. не бунтуют, как поляки, не сделал решительно ничего к изменению этого порядка вещей, а Александр II, через несколько лет по вступлении на престол (в 1863), решился даже, в подражание дяде, снова поиграть в либералы и собрать в Гельсингфорсе финляндский сейм, к которому отнесся, уважая щекотливость финляндцев, с тронною речью не по-русски, а по-французски, пообещав и впредь прибегать к его советам. Разумеется, финнам и шведам это понравилось; они делали «великому князю» овации; но очарование длилось недолго. На важнейшие законодательные реформы, напр. о свободе печати, наложено было veto, и тогда «верные» финляндцы, разумеется, выразили неудовольствие. На это им отвечали новою речью, полицейски-наставительного характера и сказанною по-русски, вероятно для того, чтобы показать, что на этом языке можно только браниться… Соответственно такому взгляду на все русское самого правительства держут себя и финляндцы, так что даже те из них, которые знают русский язык, отказываются говорить на нем в пределах княжества, особливо в случаях официальных. Бургомистр города Выборга, например, однажды, при проезде генерал-губернатора Адлерберга, рапортовал ему по-шведски, а когда тот объявил, что не знает этого языка, то по-французски, и графу нужно было сказать громко своему адъютанту: «Передайте этому господину, что если он к возвращению моему из Петербурга не выучится по-русски, то будет замещен другим лицом», – чтобы почтенный сановник действительно выучился по-русски… в неделю! – Сейм финляндский, открытие которого в 1863 году было встречено в России с сочувствием, успел в первую же сессию возбудить много горечи в русских. В речах ландмаршала Норденстама и архиепископа Абоского Бергенгейма при принятии присяги, в проповеди пастора Берга пред открытием сейма звучало явное нерасположение к России и желание казаться отдельным государством, связанным с империею только царствующею династиею. Это стремление все ярче выразилось с постепенным ходом занятий сейма. Так, дворянство с трудом и оговорками допустило к заседанию адмирала Шварца, дворян Бруна и Углу, даже не допустило их сначала к заседанию, на том основании, что они служат за границею, т. е. в России. Шведы и финны, особенно первые, намеренно забывали, что финляндский сейм есть создание русского правительства, что под властию Швеции Финляндия составляла простую провинцию и отдельного сейма не имела. – Позднее, в 1878 году, когда у России готовился разрыв с Англиею, финляндцы громко выражали сожаление, что не могут остаться нейтральными, что война за русские интересы убьет их торговое мореплавание и разорит берега. О том, как относилось финляндское правительство к русским землевладельцам в княжестве, мы уже упомянули в другом месте; так что едва ли можно сомневаться, что при первой европейской коалиции против России, с участием Швеции, Финляндия воссоединится с последнею… Русский народ, по нашему глубокому убеждению, может только радоваться этому, потому что, с одной стороны, отпадет от него вассал, которого нередко нужно бывает кормить, без всякой для России пользы и даже не видя благодарности, а с другой – правительство volens nolens должно будет оставить Петербург, в смысле «окна в Европу» замененный ныне Вержболовым, а в смысле столицы служащий только к разорению России и к тому, чтобы иметь правительство, не знающее своей страны и не любящее ее.
Правительство Александра II, однако, не разделяло этого взгляда и заботилось о сохранении Финляндии если не за Россиею, то за «великим князем Финляндским», царствующим в Петербурге, для чего постоянно держало там, на счет империи, до 20 000 войск. Крепость Свеаборг всегда была сильно вооружена и снабжена запасами опять-таки на счет России, а не Финляндии, столицу которой она защищает. Когда в княжестве случался голод, – а это было не раз, – тогда из России бывала отправляема помощь хлебом и деньгами. Финляндскому, т. е. шведскому дворянству был широко открыт доступ в ряды офицеров и чиновников империи, где они составляли себе хорошее общественное положение, а иногда и состояние. Но как эти выгоды не делали их приверженцами России, и, напротив, именно дворянство-то Финляндии постоянно стояло во главе партии, тяготеющей к Швеции, то, чтобы создать противовес ему, правительство нашло полезным поддержать значение собственно народного, или финского элемента, к которому принадлежат все крестьяне и значительнейшая часть других обитателей страны. С этою целью обращено было особое внимание на развитие финских школ, на расширение сферы употребления финского языка; но других, серьезных, особенно экономически-социальных, мер к проведению принципа «divide et impera» не принималось, и потому если финны, т. е. огромное большинство обитателей страны, ныне сознают свою национальность, т. е. отличают себя от шведов, то все еще поклонение перед шведской интеллигенцией очень сильно и в крестьянстве, и в массах горожан; сочувствия же к России нет.
Подготовка к отпадению от России совершалась и по южную сторону Финского залива, т. е. в остзейских губерниях; и как явление это гораздо важнее для русского народа здесь, чем в Финляндии, то мы остановимся на нем несколько подробнее. Немедленно по вступлении на престол император Александр II, конечно в угоду «верной» остзейской шляхте, особыми грамотами подтвердил исключительные права и привилегии трех прибалтийских губерний, чем самым признал их особое положение в строе империи, вопреки своей мудрой прабабке, Екатерине, которой, однако же, обещал подражать. При этом он даже не вспомнил, что одною из сказанных привилегий было предоставлено остзейскому дворянству не допускать в свой состав дворян русских и не дозволять им приобретать в Прибалтийском крае земель, тогда как сами остзейские шляхтичи широко пользовались своими дворянскими правами в русских губерниях. Не вспомнил и о том, что в городах Прибалтийского края, напр. в Риге, десятки тысяч живших там русских, т. е. членов «господствующей» нации, не пользовались многими гражданскими правами местных горожан немцев и т. п. Мало того. Не далее 5 июля 1856 года было утверждено положение о крестьянах Эстляндской губернии, которым эти soi-disant свободные люди были совершенно отданы в руки помещиков, получивших право перегонять их с одного участка земли на другой по своему усмотрению. Когда же, вследствие такого «порядка», разоренные эсты попробовали уходить с родины в более удобные места России, то их хватали на дороге и возвращали домой, чтобы не лишить баронов дешевых рабочих рук. Подобное же явление, – несколько, впрочем, отличавшееся подробностями, – было и в Лифляндии, причем, когда латыши отправили в Петербург депутацию с жалобою на корыстное поведение с ними баронства, то депутаты не только не были допущены, но подверглись публичным оскорблениям. Защитник интересов прибалтийского крестьянства, Шафранов, председатель местной палаты государственных имуществ, был удален со службы в Прибалтийском крае за то, что устраивал на свободных казенных землях батраков, чрез что возвышал цену на рабочие руки в помещичьих хозяйствах и, что еще неприятнее для немецких баронов, внушал батракам привязанность к России. – Другой русский деятель, архиерей Платон, поплатился таким же изгнанием из Риги за то, что был усерден к утверждению в своей пастве православия. Известно, что в 1840-х годах, при генерал-губернаторе Головине, многие латыши и эсты, в надежде приобрести серьезное за себя заступничество русского правительства противу немецко-лютеранской шляхты, приняли православие. Движение это, поддержанное Головиным и самим Николаем, только что перед тем обратившим в православие униатов, росло довольно сильно и внушало большие опасения остзейским немцам. Силою интриг они успели опрокинуть Головина, и тогда движение остановилось. Но раз перешедшие в греческую веру лютеране, в свое время, как известно, крещенные огнем и мечем в католики, а потом экономическими прижимками – в протестанты, остались православными, архиерей Платон, естественно, должен был заботиться как о том, чтобы они утверждались в своей новой вере, так и о том, чтобы не совращались ни в какую другую, как того требует положительный закон империи. Местные пасторы и администрация, сплошь составленная из лютеран, сильно негодовали на такое вторжение в их жизнь одного из исторических элементов жизни русской и потому делали все возможное во вред деятельности Платона. И когда наконец стараниями их этот архиерей был переведен в Новочеркаск, тогда торжество их и унижение значения России в глазах народных масс Остзейского края было полное[11].
Так как сепаратизм остзейских немцев поддерживается и укрепляется воспитанием части их в Германии, а большинства в основанном русским правительством семьдесят лет назад немецком университете в Дерпте (некогда русском городе Юрьеве), то министр народного просвещения граф Толстой пробовал было заняться реформой этого государственного учреждения в смысле согласования его прав и обязанностей с другими подобными заведениями в империи. Разумеется, зная силу немцев при санкт-петербургском дворе, русский министр и не думал отваживаться на какие-нибудь радикальные меры, вроде, напр., введения в университет лекций на русском языке или прекращения вызова профессоров из Германии; но ему казалось, что кое-что для ослабления антирусского направления главной остзейской школы можно сделать. Уже одно нахождение ее в маленьком уездном городе, когда соседняя Рига, со стотысячным населением, оставалась без высшего учебного заведения, внушало мысль о переводе Дерптского университета именно в Ригу, где атмосфера не так баронски-феодальна и где, кроме того, есть 40 000 русских. Были и другие обстоятельства, касавшиеся дерптского седалща немецкой науки, о которых графу Толстому казалось небесполезным доложить русскому императору. Он и доложил; но на докладе последовала высочайшая резолюция в таком смысле, что это дело одного монарха улаживать интересы разноплеменных его подданных по внушению его личного разума. «Ты государь или я?» – строго заметил император Александр министру, осмелившемуся думать, что он служит России, предлагая меры не совсем во вкусе остзейских немцев… Впрочем, все-таки пришлось удалить с кафедры истории профессора Ширрена, который внушал молодым баронам, своим слушателям, что остзейские «княжества» не простая составная часть России, а земля, связанная с последнею лишь «капитуляциями» времен завоевания края Шереметевым, т. е. что у остзейцев есть свое государственное право, отличное от русского. Ввиду событий 1864 года в Дании, от которой на основании подобного же учения отторгнуты были немцами Голштиния и даже Шлезвиг, эта ширреновская теория получала особое значение и не понравилась даже в Зимнем дворце. А соответственно этому, императору Александру пришлось лично напомнить остзейской шляхте и бюргерству, во время пребывания в Риге, что они – русские подданные…
Большую и заслуженную известность приобрела полемика по «балтийскому вопросу», веденная Юр. Самариным противу упомянутого сейчас Ширрена и других остзейских сепаратистских писателей: Бока, Экгардта, Юнга-Штиллинга и пр. Нам нет нужды здесь напоминать ее подробности; но довольно сказать, что Самарин едва ли не первый раскрыл русскому обществу серьезную опасность от германизации Прибалтийского края, в наше время совершавшееся с большим успехом и с прямою целью подготовить соединение этого края с Германиею, которая тем временем успела слиться в одно грозное целое. Самарин же указал и ту почву, на которой Россия может расстроить планы немецких баронов, именно на необходимость устроить судьбу латышей и эстов по образцу крестьян русских и польских, наделением их землею, с выкупом последней у помещиков правительством. Но полемика эта скоро была запрещена, по крайней мере для одной стороны, русской, потому что остзейские бароны продолжали издавать за границею самые неприязненные России памфлеты, находившие свободный доступ в Ригу и пр., тогда как самаринские «Окраины России», печатанные в Праге и Берлине, были у нас запрещены.