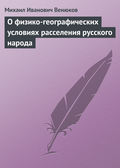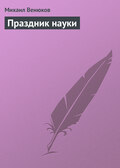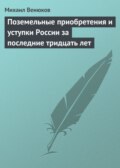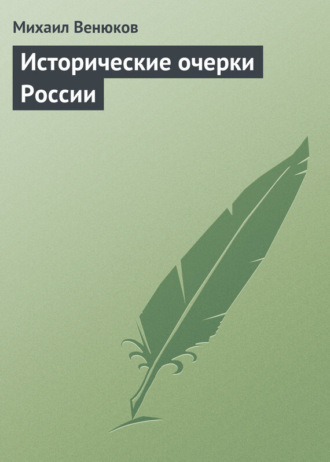
Михаил Венюков
Исторические очерки России
Некоторые из этих слабых сторон амурской колонизации не могли не обратить внимания самого правительства даже несмотря на то, что оно, уволив в 1861 году Муравьева от управления Восточною Сибирью, почти перестало заниматься Амуром. Так, в видах усиления земледельческого населения разрешено было, в течение нескольких дет, принимать беглых корейцев, приходивших из-за Тумень-Улы. Их селили в Южно-Усурийском крае и даже на Среднем Амуре, и они оказались очень полезными, трудолюбивыми колонистами, так что, напр., основанное ими на Амуре село Благословенное считается лучшею из всех колоний Амурского края. Но потом вдруг вышло запрещение принимать их, и усердие пограничных начальств, исполнявших это распоряжение, заходило так далеко, что они не затруднились сожигать живыми корейских выходцев, появлявшихся в наших пределах. Другая мера к увеличению числа переселенцев собственно в Приморском крае состояла в основании колоний финляндских, в местностях к востоку от залива Петра Великого; но эта мера имела печальный ход и исход. Именно, Удельное ведомство, прослышав о богатствах Южно-Усурийского края, вздумало было отобрать у государства в пользу царской фамилии лучшие земли в долине Сучана и на соседних берегах Японского моря, и для того назначило к отмежеванию себе даром 480 000 десятин. Потом куплен был пароход «Находка» и на нем отправлено из Балтийского моря несколько переселенцев-финнов, которых, как соотечественников, желал видеть около себя тогдашний губернатор Приморской области, Фуругельм. Люди эти летом 1869 года прибыли во Владивосток, но скоро увидели себя обманутыми. Ни домов, ни скота, ни земледельческих орудий, им обещанных, они не нашли готовыми, а потому стали разбегаться. Пароход «Находка» также вскоре погиб, и вообще колонизация не удалась. Тогда Удельное ведомство возвратило в казну взятые было земли, но не даром, а за полмиллиона рублей. Этим попытка императорской колонизации и кончилась, хотя за полмиллиона государство могло бы перевести на Амур, Усури или к берегам Японского моря до 1000 душ со всем нужным, чтобы их там отлично устроить. Относительно выбора мест под колонии с течением времени произошли некоторые улучшения, впрочем купленные дорогою ценою для переселенцев. Так, 250 семейств, водворенных на Амуре, ниже Усури, среди болот, получили, после трехлетних бедствий, от генерал-губернатора Корсакова право переселиться куда пожелают, – и тогда ушли на свои теперешние места в Заханкайский край, где наконец водворились не без удобств. Но другие слабые стороны амурской колонизации исправляются не так успешно, и, например, доселе еще не устроено вдоль линии приамурских селений колесной дороги на всем протяжении, хотя это могло быть достигнуто, напр., помощию штрафных солдат или арестантов, если уже вольнонаемный труд казался слишком дорогим. Управление Приморским краем все еще остается за начальником Сибирской флотилии, и как местопребывание его перенесено в 1875 г. из Николаевска в Владивосток, то есть на самую южную оконечность страны, простирающейся к северу до Берингова пролива, то понятно, что административные условия развития края не только не улучшились, а ухудшились. Предположение, возникшее в самой правительственной среде, сделать средоточием управления Хабаровку, а Владивостоку придать значение исключительно военного и торгового порта, встретило сопротивление в Морском министерстве и великом князе Константине Николаевиче, которым, естественно, хочется удержать раз полученную исключительную власть в Приморском крае, т. е. не допустить ни отдельного гражданского губернатора, ни отдельного начальника сухопутных войск, которые теперь сполна служат интересам морского ведомства. Перед таким высоким авторитетом, как председатель государственного совета и брат императора, конечно, склонились безмолвно министры военный, внутренних дел и пр., потому что для них избавление себя от неприятностей со стороны великого князя, конечно, важнее благоустроения какого бы ни было края, а тем более Амурского, до которого так далеко и который, притом, не имеет средств напоминать о себе в Петербурге.
Мы с намерением остановились несколько подробнее на амурской колонизации, потому что она более, чем всякая другая, показывает неразумность исключительно административного руководства во всяком большом национальном предприятии. Очевидно, что не таково было бы заселение Амура, если ба с самого начала обнародованы были о нем достаточные сведения и затем предоставлен свободный доступ каждому, кто хотел бы там водвориться как колонист свободный, сполна распоряжающийся своими силами. Нет сомнения, что если бы на Амуре не было казачьего управления, то первые поселенцы благоденствовали бы теперь более, чем жители какой-либо части России, потому что естественные богатства страны огромны. Трудно, наконец, допустить, чтобы администрация важнейшей части Амурского края, именно прибрежьев Японского моря и Усури, была хуже, если бы она находилась в руках не морского ведомства, вовсе для управления не подготовленного… История обязана делать подобные замечания, чтобы быть поучительной.
Но если амурская колонизация имеет много слабых сторон, то все же ее нельзя сравнивать по результатам, по самому исполнению и тем более по руководящим принципам с печальною колонизациею Сахалина. Остров этот до настоящего времени имеет лишь двоякое значение: стратегическое в том смысле, что запирает вход в Амур, и экономическое, в смысле каменноугольных богатств, на нем находящихся. По климату своему и по растительной и животной природе он напоминает губернии Архангельскую, Олонецкую и Вологодскую, отчасти Костромскую. Туземное население, которое мы застали там (и которое ныне большею частию ушло в Японию от наших «порядков»), занималось исключительно звериною и рыбною ловлею, а произведения земледелия и мануфактур получало от японцев. Таким образом, сама природа указывала нам, что там делать: занять укреплением точку, лежащую у самого узкого места Татарского пролива, предоставить людям промышленным завести каменноугольные разработки, обеспечив им на несколько лет сбыт добытого угля во флот, который в нем нуждается, и не стесняя в выборе рабочих; вызвать из Архангельской и др. губерний переселенцев-рыболовов и звероловов и указать им для водворения важнейшие местности на острове: в заливе Анивском, у Кусуная, Мануэ и т. п. Но ничего этого не случилось, а сделано все совершенно противно. Местность у Погоби, т. е. противу мыса Лазарева, осталась незанятою; каменноугольные копи стали обрабатываться казною, и притом при помощи не вольнонаемных рабочих, а каторжных, которых приводили сюда из Европейской России через всю Сибирь, так что эти изнуренные и, стало быть, плохие рабочие обходились государству дороже потешных кавалергардских солдат; свободных колонистов водворяли не у морских берегов, а внутри острова, на Такое, где хотели сделать из них землепашцев, сеющих даже пшеницу, хотя на острове только что может родиться ячмень или вазаская рожь. Да и этих злополучных колонистов не наделили вовремя ни семенами, ни рабочим скотом. Когда же опыт их доказал безнадежность свободного земледелия, то, в видах доставления хлеба каторжным и сторожившим их солдатам, чиновники, приезжавшие из Петербурга, сочинили проект устройства сельскохозяйственных ферм, управляемых ими, чиновниками, и обрабатываемых каторжными же, под надзором вооруженных солдат! На этих фермах, для удовольствия гг. управителей, должны были быть заведены, на казенный счет, куры, гуси, индейки и т. п., для чего были составлены штаты этой дворовой птице и определены издержки на ее приобретение. Частные люди, попытавшиеся было завести каменноугольные разработки на Сертунае, были вытеснены под предлогом, что они привозят на остров иностранных рабочих, китайцев, хотя русских там нет. Мало того; когда опыт доказал, что казенная администрация каменноугольных копей хлопотлива и убыточна, то ее передали – конечно, за взятку – откупщику из чиновников[8], предоставив ему в безусловное распоряжение и несчастных, безответных рабочих – каторжников, которые таким образом должны были, как некогда негры в Америке, работать в кандалах на корыстного эксплуататора, которому жалеть их было нечего, потому что правительство обязалось не оставлять его без рабочего… очевидно, уже не люда, а скота… Не сомневаемся, что потомки наши, даже очень недальние, с удивлением и негодованием будут читать эти строки; но в них – одна строгая истина. Объясняется же нелепость всех этих фактов тем, что участь Сахалина была сполна в руках бюрократии, которая для себя и придумала довольно выгодные комбинации, напр. фермы с безответными рабочими. Этой бюрократии, которой девизом всегда и везде было знаменитое изречение одного французского короля, «Après nous le déluge», совесть, конечно, ни разу не подсказала, что насаждаемое ею зло будет давать себя чувствовать долгое время и Сахалину, и вообще России. Она настолько бессердечна, что назначила к переселению на Сахалин ежегодно по 800 человек ссыльных, хотя собственно для каменноугольных работ требовалось не более 370-ти[9]: остальные, очевидно, предполагались для ее личных послуг, для эксплуатации казны при их перевозке на Сахалин и содержании там, и, наконец, в запас, по случаю огромной смертности между рабочими, которых иногда предписывалось кормить червивою солониною, промыв ее предварительно морскою водой[10], и которых часто рассылали по окрестной стране добывать в пищу растительные коренья!..
Остановимся, однако же, в дальнейшем изображении мрачных сторон сахалинской колонизации, пожалеем, что в ней нет ничего светлого, что бы хоть сколько-нибудь уравновешивало этот мрак, и заключим одним выводом. При первой войне с Англиею нам, вероятно, придется оставить Сахалин, не имеющий оседлого русского населения и возможности содержать солдат, нужных для его защиты. Тогда, наконец, правительство сознает ложность системы, им принятой в этой стране; сознает, но будет уже поздно. Выход из Амура, а, вероятно, и господство над Южно-Усурийским краем помощью занятия одного из его портов (напр. зал. Посьета), перейдут в руки главного, исторического и беспощадного врага народа русского.
Колонизация, как средство укрепления за страною новых окраин, была употребляема нами после 1855 года не в одних новоприобретенных землях, а и в некоторых старых наших владениях, где на необходимость ее указывали обстоятельства. Так, после Восточной войны, которая показала ненадежность татарского населения Крыма, мы пробовали заселить этот полуостров более надежными людьми; но не только не имели успеха, а понесли большое нравственное поражение. Даже пришедшие в 1860-61 г. из Турции болгары, познакомясь с нашими чиновничьими порядками, поспешили оставить благодатные места, которые указывались им для водворения. Заселению же Крыма русскими колонистами постоянно противилась плантаторская партия в Петербурге, потому что она боялась и боится больше всего допустить свободный отлив крестьян из русских губерний, чтобы не потерять дешевых работников в своих имениях. Отговоркою же обыкновенно служило, что русские будто бы не умеют заниматься садоводством и виноделием, которые составляют главные промыслы в стране, хотя собственно этими промыслами занимаются лишь жители южного берега и долин Салгира, Алмы, Бельбека и Качи. Что касается до западных окраин, населенных поляками, литвинами, немцами и эстами, то здесь за исключением Муравьева, покровительствовавшего немногочисленным староверам, о русской колонизации никто и не думал. Напротив; в провинции эти был открыт широкий доступ инородческим элементам, особенно немецкому, а чехи призывались даже самим правительством. В Прибалтийском крае о русской колонизации не могло быть и речи, потому что она была бы противна интересам тамошних баронов, которые беспрестанно поглядывают на Пруссию и больше всего боятся водворения среди покорных им латышей и эстов русского крестьянства с его мирскими порядками и общинным землевладением. А что до Финляндии, то там само местное правительство, конечно, с согласия своего великого князя, т. е. русского императора, позаботилось об изгнании из страны даже тех слабых зачатков водворения русского элемента, которые там были насаждены Петром Великим и некоторыми из его преемников. Сейм ассигновал особые суммы на покупку у русских помещиков тех имений, которыми они владели на финляндской почве, а в Гельсингфорсе русские подвергались и подвергаются оскорблениям за свою национальность. До чего же эти оскорбления достигают, видно из того, что русские не смеют устраивать на улицах церковных процессий без того, чтобы студенты университета да и вообще местные жители не сделали демонстрации скандального характера. Под влиянием такого гнета сами водворившиеся на жительство в этом городе русские купцы говорят преимущественно по-шведски, и даже называют между ними одного такого, который вовсе не знает русского языка и ходит на исповедь к русскому священнику с переводчиком… Словом, на западных окраинах, где Екатерина и Николай так заботились о водворении русского элемента, происходил в наше время отлив его и водворение элементов чуждых, особенно немецкого, так как в Польшу и Юго-Западный край переселялось ежегодно до 40 000 немцев, и только введение всеобщей воинской повинности в 1874 году несколько остановило этот наплыв германизма.
В отдельно формулированных выводах этот обзор заселения окраин России едва ли нуждается…