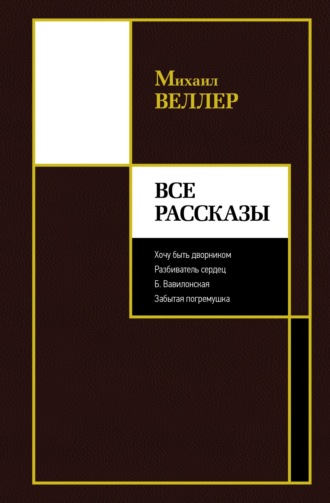
Михаил Веллер
Все рассказы
В лифте он вспомнил… и не то чтобы даже омрачился… но весь тот день не исчезала какая-то тень в настроении.
С этого эпизода, крупинки, началась как бы кристаллизация насыщенного раствора.
Павел Арсентьевич честно спросил себя, не надоели ли ему деньги, и так же честно ответил: нет. Неограниченность материальных перспектив скорее вдохновляла. Но…
Накапливалась одновременно и какая-то связанность, усталость. Он больше не был ни легок, ни чудаковат, и сам знал это. Павел Арсентьевич отметил в себе моменты внутреннего злорадства при совершении своих добрых дел. Мол, нате, – а знали бы вы… Стал ловить себя на нехороших, неожиданно злых мыслях.
Он понял, что профессия оказалась тяжелее, чем он предполагал. И, пожалуй, оплата, как ни высока она теперь была, производилась все же по труду. Этот успокоительный вывод, вместо того чтобы укрепить душевное равновесие Павла Арсентьевича, непонятным образом усиливал внутреннее раздражение.
Система меж тем функционировала отлаженно, от Павла Арсентьевича даже не требовалось личной инициативы. Однако к каждому поступку ему теперь приходилось понуждать себя, и он отчетливо сознавал это.
Бунт вызревал в трюме, как тыква в погребе.
Но сначала в марте пришло письмо от брата, из Новгорода. Просил приехать.
Затемно в субботу Павел Арсентьевич и отбыл «Икарусом» с Обводного и вкатил в Новгород серебряно-солнечным утром.
В ободранной квартире, похмельный – нехорош был брат… После ухода жены (несколько лет назад) он тосковал, запивал иногда, говорил о жизни, жалел всех и все пытался объяснить…
Они пили в кухне, нежилой, голой – два брата, два невеселых стареющих мужика, и думал Павел Арсентьевич, что лучше б Нина его разлюбезная ушла гораздо раньше, и все бы тогда еще сложилось счастливо, пьянел, считал ее стервой и шлюхой, а потом и ее жалел, и бубнил неискренне, что все к лучшему, и искренне – что она из тех, на ком вообще жениться нельзя…
Наутро брат встал снова черен, Павел Арсентьевич потащил его выгуливать, под закопченными сводами «Детинца» осетрину по-монастырски медовухой запили, а вечером дома он заставил его разгребать мусор, пришивать номерки к грязному белью и менять перегоревшие лампочки.
В понедельник, позвонив Агаряну и Верочке на работу, он хозяйничал, купил новые занавески и швабру, мыл пол, все заблестело, а вечером выпили – уже немного, перебирали детство, пили за детей, поминали отца и мать и плакали.
Павел Арсентьевич подарил брату кофейный пиджак и приемник «Океан» и велел приезжать на следующие выходные.
А дома он вынул из кошелька толстую пачку зеленых пятидесятирублевок. Глупо подумал, что доллары – тоже зеленого цвета…
В пушистом кофейном джемпере и вранглеровских джинсах он сел за семейный стол и поковырялся в индейке.
Вызревшая тыква оказалась бомбой, стенки разлетелись, локомотив сошел с рельс и замолотил по насыпи.
Эффект в лаборатории оказался силен. Даже очень силен.
Павел Арсентьевич явился на работу ровно в восемь сорок пять и закрыл за собой дверь, уходя, ровно в семнадцать пятнадцать. Масса ужасных вещей вместилась в этот промежуток времени.
В восемь пятьдесят пять он отказался утрясать вопросы с технологами.
– Супрун, – с сухим горлом ответил он, – это компетенция начальника группы. Или завлаба. Я запустил работу. Пусть прикажут – тогда пойду.
Супрун растерялся, стушевался, просил извинения, если обидел, и только потом обиделся сам.
Алексей Иванович Агарян, заглянувший с мягким пожеланием приналечь, получил ответ:
– Кто везет – того и погоняют.
Агарян обомлел и ущипнул себя за усики. Похолодевший от усилия над собой Павел Арсентьевич стал точить карандаш.
Каждый час он выходил на пять минут курить в коридор, и в лаборатории словно включали тихо гудящий трансформатор: «Крупные неприятности… ОБХСС… вызывают в Москву… любовница…»
– Извините – я ни-чего не могу для вас сделать, – ласково, с состраданием даже сказал он бескаблучной Людмиле Натальевне Тимофеевой-Томпсон. Старая дама в негодовании ушла к затяжчикам.
Теперь Павел Арсентьевич не садился в транспорте, чтоб не уступать потом место. На улице смотрел прямо перед собой: пусть падают, кому нравится, его не касается. Отворачивался, когда женщины брались за пальто: не швейцар.
Существование его двинулось в перекрестии пронизывающих взглядов; они вели его, как прожекторные лучи намеченный к сбитию самолет.
В последующие дни он отказался от встречи с подшефными школьниками, овощебазы, дружины и стояния в очереди за колготками, заполучив неприязнь Тимофеевой-Томпсон, Зелинской и Лосевой, Шерстобитова, который все еще не женился, но уже на другой, и Танечки Березенько. В его отсутствие для успокоения общественного самолюбия решили, что Павел Арсентьевич нажил расстройство нервов вследствие переутомления.
Без двадцати семь он являлся домой с продуктами из универсама, с аппетитом обедал, шутил, возился со Светкой, мыл посуду, декламировал прочувственные нравоучения Валерке и читал в постели журнал «Юный натуралист».
По истечении пятнадцати суток этого срока испытаний он получил пятьдесят пять рублей аванса, кои и вручил Верочке со скромным и горделивым видом наследника, отрекшегося от миллионов и заколотившего копейку грузчиком в порту.
Кошелек пятнадцать суток провел в запертой на ключ тумбочке; ключ был упрятан в старый портфель, а портфель сдан в камеру хранения.
По освобождении кошелек предъявил тысячу восемьсот пятьдесят рублей: на полсотни больше последней выдачи, как и наладился.
Спорить и бессмысленно ломиться против судьбы они с Верочкой не стали, деньги отложили, а часть пустили на жизнь.
Ночью в туалете Павел Арсентьевич составил крайне детальный список: что в жизни делать обязательно, а что – сверх программы. «И никакого произвольного катания, – шептал он, – никакой самодеятельности».
Жизнь приобрела напряженность эксперимента. Павел Арсентьевич боялся лишний раз улыбнуться. Мучился, взвешивая каждое слово. Дома обедал, смотрел телевизор и ложился спать – все. «Как все нормальные мужья», – веско объяснил Верочке.
Еще пятнадцать суток.
Тысяча девятьсот.
Нехороший блеск затлел в глазах Павла Арсентьевича. Ночами он просыпался от сердцебиений (по-современному – тахикардия).
Назавтра, скованный от злости, он сидел в вагоне метро, отыскивая глазами женщин постарше, поседее; и сидел.
Танечке Березенько ни с того ни с сего влепил, что надо соотносить траты со средствами.
В скороходовском дворе оглянулся, подобрал камешек и с силой запустил в голубя; не попал.
Сергееву велел пошевеливаться с долгом; он не миллионер.
Тимофеевой-Томпсон прописал ходить в обуви без каблуков: и по возрасту приличнее, и для ног легче. «А также для чужих рук», – негромко добавил.
Какие услуги!..
Пружина разворачивалась в другую сторону: треск и щепки летели. В воздухе лаборатории пышным цветом распустились нервозные колючки.
Зелинской и Лосевой было велено пройти заочный курс техникума легкой и обувной промышленности, а также бросить бегать в театр и записаться – с целью замужества – в клуб «Тем, кому за 30».
Агаряну было положено заявление о десятке прибавки. Агарян вырвал два волоска из усиков, подписал и двинул в бухгалтерию.
Павел Арсентьевич ждал конца этих пятнадцати суток, как зимовщик – уже показавшегося на горизонте корабля со сменой. Корабль подвалил, и в пену прибоя посыпались с автоматами над головой десантники в чужой форме.
Тысяча девятьсот пятьдесят.
Любимым местом в доме постепенно стала у Павла Арсентьевича ванная. Там он мог быть один, долго и вроде по делу. Он пристрастился сидеть там часа по два каждый вечер; дети мыли руки перед сном на кухне.
Он сидел под душем, хлещущим по разгоряченному лысеющему темени, время от времени высовываясь к прислоненной у мыльницы сигарете. «Гад, – шептал он, затягиваясь, – паразит, врешь, что хочу, то и делаю».
Чего он хотел, он уже решительно не знал, а делал следующее:
Потребовал двухдневную путевку в профилакторий; и получил, и не поехал, но Сорокин тоже не поехал.
Совершил прогул: вызвал врача, настучал градусник, подарил коробку конфет и получил больничный по гриппу на пять дней. Позвонил в лабораторию (телефон стоял давно – триста ре) и злобно потребовал навестить его – как он навещал всех. Вечером примчалась делегация в составе Зелинской и Лосевой с хризантемами и Супруна с «Мускатом», которую Павел Арсентьевич и велел Верочке не пускать, передав, что он заснул впервые за двое суток.
Вышел в день совещания по итогам первого квартала, потребовал слова и вознес ханжеским голосом льстивую и неумеренную хвалу администрации, заработал неожиданно аплодисменты, спохватился и тут же подверг администрацию черной клеветнической критике, а деятельность родной лаборатории смешал с грязью, предложив чистку, ревизию и пересмотр планов работы и штатного расписания, снова сорвал аплодисменты и с легким сердечным приступом был отвезен домой на такси.
Кошелек платил. Павел Арсентьевич потерял всякую ориентацию, словно слепой в невесомости. Он обратился к своей душе, узрел в ней скверну и грянул во все тяжкие. Перестал здороваться с соседями по площадке. В комиссионке предложил взятку продавцу за японские электронные часы «Сейко»; часы нашлись тут же.
На грани невменяемости Павел Арсентьевич украл в универсаме пачку масла и банку сардин, заставил кассиршу дважды пересчитать и вслух сказал: «Жулье». Он стал пить и ругаться. Кошелек платил.
В два часа ночи Павел Арсентьевич обнаружил себя в незнакомой комнате и почти в такой же степени незнакомой постели, где лежала незнакомая женщина. Восстановив в памяти предшествующие события, он убедился, что изменил Верочке сознательно. Домой назло не звонил и пришел лишь вечером после работы. Был принят с пониманием и уважением – усталый добытчик, глава семьи. Кошелек заплатил.
Ушибившись о бесплодные крайности, Павел Арсентьевич решил попытать счастья в золотой середине. И бросил делать вообще что бы то ни было.
Он бросил ходить на работу. И вообще никуда не выходил. Поставил в ванную переносной телевизор, бар и пепельницу и сидел целыми днями среди благоухающих сугробов немецкого шампуня, пил черный португальский портвейн по шесть пятьдесят бутылка, курил крепчайшие кубинские «Партагас» и прибавлял теплую воду.
Верочка плакала…
Кошелек платил.
Холодным апрельским утром Павел Арсентьевич умыл лицо, побрился, выпил крепкого чаю, надел старую синюю нейлоновую куртку, сел в троллейбус, доехал до Дворцового моста и с его середины кинул кошелек в воду. Выпил кружку пива, позвонил на работу, сообщил, что тяжело болел и завтра придет, дома произвел уборку, приготовил обед, забрал удивленную и обрадованную Светку из садика и поведал пришедшей Верочке финал всех событий.
– Ну и слава богу, – сказала Верочка, с лица которой словно сняли теперь светомаскировку. – Так и лучше.
Вечером они ходили в кино. И весь следующий день тоже был славный, теплый и прозрачный.
А дома Павел Арсентьевич увидел кошелек. Он лежал на их постели, отсыревший, и на покрывале вокруг расходилось влажное пятно. На тумбочке испускала струйку кучка мокрых денег.
– Ааа-аа!.. – голосом издыхающего барса сказал Павел Арсентьевич.
– Пришел, – сказал кошелек. – Мерзавец… Свинья неблагодарная. – И простуженно закашлял. – Ты соображаешь хоть, что делаешь?
Павел Арсентьевич взвизгнул, схватил обеими руками мокрую потертую кожу, выскочил на балкон и швырнул ее в темноту, вниз, на асфальт.
– Вот так, – хриповато объявил он семье. И не без рисовки стал умывать руки.
Назавтра, отворив дверь, по лицам домашних он сразу почуял неладное.
Кошелек сидел в кресле под торшером. Нога у него была перебинтована. Он привстал и отвесил Павлу Арсентьевичу затрещину.
– Он в травматологии был, – хмуро сообщил Валерка, отведя глаза.
Окаменевшая Верочка двинулась на кухню. Кошелек потребовал чаю с лимоном. Отхлебнул, поморщился на чашку и сказал, что даст на новый сервиз, хотя они и не заслужили.
Петля стянулась и распустилась сетью: началась оккупация.
Кошелек велел, чтоб его величали Бумажником, но откликался и на Портмоне. Запрещал Светке шуметь. Ночью желал пить чай и читать биографии великих финансистов, за которыми гонял Павла Арсентьевича в букинистический. На дверь ванной налепил голую девицу из журнала. По телевизору предпочитал эстрадные концерты и хоккейные матчи, сопровождая их комментарием, кто сколько получает за выступление. Во время передачи «Следствие ведут знатоки» клеветал: говорил, что все они взяточники и сажают не тех, кого следует, и поучал, как наживать деньги, чтоб не попадаться. И за все исправно платил.
Под его давлением Верочка записалась в очередь на автомобиль и на кооперативный гараж. Кошелек обещал научить, как провернуть все в полгода.
Однажды Павел Арсентьевич застал его посылающим Валерку за коньяком, с наказом брать самый лучший. Валерке сулился магнитофон к лету.
Верочка говорила, что теперь уже ничего не поделаешь, а когда они поменяют с доплатой свою двухкомнатную на четырехкомнатную – она уже нашла маклера, – то у Бумажника будет своя комната, и все устроится спокойно и просторно.
Именование ею кошелька Бумажником Павлу Арсентьевичу очень не понравилось. Еще менее ему понравилось, когда Кошелек погладил Верочку ниже спины. Судя по отсутствию у нее реакции, случай был не первый.
Павел Арсентьевич пригрозил уволиться с работы и пойти в ночные сторожа. Кошелек парировал, что он может хоть вообще не работать – хватит и работающей жены, с точки зрения закона все в порядке. Да хоть бы и оба не работали, плевать, с милицией он сам всегда сумеет договориться.
Павел Арсентьевич замахнулся стулом, но Кошелек неожиданно ловко ударил его под ложечку, и он, задохнувшись, сел на пол.
Когда Светка гордо объявила, что подарила Маришке из второго подъезда синий мячик и помогала искать котенка, Павел Арсентьевич напился до совершенного забвения, попал в вытрезвитель, из которого и был извлечен через час телефонным звонком Кошелька.
…Билет он взял в кассах предварительной продажи на Гоголя. До Ханты-Мансийска через Свердловск. Там есть и егеря, и промысловая охота, и безлюдность и отсутствие регулярного сообщения, – он прочитал все в энциклопедии. Друг его институтского друга работал в тех краях лесничим. Пристроит.
Он оставил Верочке письмо в тумбочке и поцеловал спящих детей. Чемодана с собой не брал. Одолжит денег и купит все на месте.
Утро в аэропорту было ветреное и ясное. Самолеты медленно рулили по бетонному полю и занимали место в ряду. Гулко объявили регистрацию на его рейс.
Павел Арсентьевич прошел контроль, магнит, стал в толпе ожидающих выхода на посадку и засвистал пионерскую песенку.
Подъехал желтый автобус-салон, прицепленный к седельному тягачу-ЗИЛу, дежурная сдула кудряшку с глаз и открыла двери; все повалили.
Трап мягко поколебался под ногами, и Павла Арсентьевича принял компактный комфорт лайнера. Его место было у окна.
Салон был полупустой и прохладный. Павел Арсентьевич застегнул ремень, улыбнулся и закрыл глаза. Дверца хлопнула. Трап отъехал. Засвистели турбины, снижая мощный тон. Они тронулись.
Потом город в иллюминаторе накренился, бурая дымка подернула его уменьшающийся постепенно чертеж, и Павел Арсентьевич задремал.
– Минеральная вода, – сказала стюардесса.
Павел Арсентьевич протянул руку к подносу, и тут же протянулась к пластмассовой чашечке с ручкой без отверстия рука соседа. Рядом сидел Кошелек.
Он солидно раскинулся в кресле у прохода и благосклонно разглядывал круглые коленки стюардессы под смуглым капроном.
– А покрепче ничего нет? – со слоновой игривостью поинтересовался Кошелек, поднимая доброжелательный взгляд к ее бюсту.
– Покрепче нельзя, – без неудовольствия отвечала стюардесса, и в ее голосе Павел Арсентьевич с тоской и злобой различил разрешение на подтекст. Она повернулась с пустым подносом и пошла за следующей порцией.
– А? – сказал Кошелек и подмигнул вслед стройному и округлому под синим сукном. – Ни-че-го… В Свердловске они на отдых пойдут; там посмотрим. Выпьем, причастимся? А то ведь с утра не выпил – день пропал.
Он вынул из внутреннего кармана плоскую стеклянную бутылочку коньяку.
– Потом в туалете по очереди покурим, точно? А в Свердловске хватай в буфете два коньяка и дуй прямо к диспетчеру по пассажирским перевозкам. А то мы с тобой в Ханты-Мансийск до морковкиных заговен не улетим.
А вот те шиш
Осенняя набережная курортного города.
– Приветствую!
– Виноват?..
– Багулин? Я не ошибся.
– Решительно не могу припомнить…
– Вы изменились меньше, чем я. Тридцать шестой, Москва, а?
– А-а!.. да-да… но все же?..
– А избушка под Тулой, зима?
– Так-так-так-так… ну же!
Багулин,
около 70 лет, хорошо сохранившийся, рослый, седина малозаметна в густых русых волосах. Одет тщательно, с учетом моды; манера держаться добродушно-покровительственная. Чувствуется, что человек этот себя уважает и собой доволен, к тому имея основания.
Арсентий,
того же возраста, но выглядит старше. Худощавый, нервный; некоторую неуверенность в себе прикрывает иронией и порывистой решительностью. Новая одежда топорщится на нем, вызывая сходство с манекеном в провинциальном универмаге. Впечатление производит неопределенное: не знаешь, чего ожидать от такого человека.
Обозначим их для краткости просто Б. и А.
Чуть отодвинувшись, они оценивают друг друга.
А. Вот – встреча…
Б. Вот встреча! Через века, а!
А. Какими судьбами здесь?
Б. (хозяйски поведя рукой). Живу.
А. Здесь? Давно?
Б. Четвертый год. Вышел на отдых – и осел на берегу теплого моря.
А. (завистливо вздыхает). Королевский вариант. Хорошо обосновался? Как квартира?..
Б. (с естественностью). Купил дом. Сад. Аркадия, понимаешь, и идиллия!..
А. Мечта. Мм. Мечта. Большой?
Б. (скромная улыбка). Не слишком. Шестьдесят пять метров. Четыре комнаты, кухня, веранда. Но уютно, знаешь. Жизнь мечтал пожить в своем доме. Купил кресло-качалку! Вечером сядешь в нем на веранде, пледом накроешься, книжку возьмешь, цикады стрекочут, море шумит… Винцо домашнее свое – чистый виноград…
Слушай! Едем ко мне! Мигом. Я на машине. Посидим… Ты-то как?
А. У тебя машина?
Б. Да вот же – синие «Жигули». Ну, едем. Приглашаю. Мы с женой вдвоем, дочка в Киеве, сын в Ленинграде, попробуешь вино…
А. (сглатывает, покачивает головой, смотрит на часы). У меня самолет через три часа.
Б. Куда?
А. В Москву.
Б. Ты там?
А. Да…
Б. Так и прожил?
А. Да…
Б. И откуда сейчас?
А. Из Ставрополя. Впереди гроза, вот посадили, торчим здесь.
Б. Э, так еще сто раз вылет отложат. Едем! От меня позвоним в аэропорт, справимся, – телефон я себе поставил, я тут у них как-никак депутат горсовета.
А. (мнется). Не могу… У меня там встреча назначена…
Б. (шутливо грозит). Небось какая-нибудь дама?.. Ох, ты старый жук!..
А. (смущенно). Что ты, ну… Может, если хочешь, там посидим в ресторане, а?..
Б. Зря. Точно не можешь?
А. (вздыхает). Точно.
Б. (напористо). Ну!
А. Нет… надо в аэропорт.
Машину Багулин ведет элегантно и со вкусом – он все делает элегантно и со вкусом. На лице Арсентия удовольствие от комфорта, в позе некоторая напряженность.
Б. Работаешь еще?
А. На пенсии…
Б. Какая?
А. Девяносто четыре.
Б. Что ж… Кем ушел?
А. Инженером.
Б. Старшим?
А. Просто инженером.
Б. (сочувствует со своего высока, уяснив социальный статус старого знакомого). Эх, Сенька!.. Как был ты добрым с юных лет – так, небось, и ехали всю жизнь на твоем горбу, кому не лень. Да…
Семья есть?
А. Нет, знаешь.
Б. Женат хоть был?
А. Да как-то все так…
Б. Да. Ясно… Сейчас-то – что делал в Ставрополе?
А. С похорон…
Б. Вот как… Кто?..
А. Сестра.
Б. (соболезнуя барственным лицом). Годы наши… Крепись, старина. Мы мужчины, дело такое…
А. (спокоен). Да. Конечно.
Полупустой по дневному времени ресторан, жизнь аэропорта за стеклянной стеной. Столик в углу; распоряжается за ним, безусловно, Багулин.
Б. Не «Реми Мартен», но коньячок сносный.
А. (причмокивает). Напиток!.. Дорог, слушай, дьявол.
Б. (полагая, что уловил смысл). Ты – мой гость сегодня. Да, да, дискуссия закрыта.
А. (кротко подчиняясь). Завидую людям, умеющим жить. Всегда завидовал.
Б. (принимая на свой счет должное; с самодовольством как нормой поведения). Умение зависит от тебя самого. Вот ты так и остался в Москве. Зачем? Чего всю жизнь цеплялся? Вот – я подался на Восток. Надо было решиться? – надо. Непросто? – ничего страшного. Результат? – налицо. Кандидатская? – пожалуйста. Докторская? – просим. Директор института? – будьте любезны. Трудом? – трудом. Но без этого дикого столичного суетливого напряжения и дворцовой грызни.
А. Я всегда знал, что ты развернешься в жизни. Не сомневался… Ты всегда умел поступать по-крупному. Не боялся резко класть руля… Не всем это дано. Я рад, что ты добился многого. Состоялся. Ты и должен был.
Б. (учит). А чего, чего бояться? Осмотрелся, оценил – и давай!
А. (прислушиваясь к трансляции объявления рейса на Гамбург). За границей, вероятно, бывать приходилось…
Б. (небрежно). Случалось. Англия, Индия, Алжир. Работа, конечно, график жесткий, но присутствовали, прямо скажем, возможности и для удовлетворения любопытства. Такова логика – не боишься медвежьих углов – так видишь мир.
А. (он уже под хмельком). Помню давние разговоры. Помнишь!.. Да! Брать судьбу за глотку. Старость… гм… вторая молодость… Молодец. Завидую. Прожил.
Б. (великодушно). Ну, и у меня не совсем все по планам выходило. Жизнь, как известно, вносит коррективы.
А. (с мгновенным проблеском глаз). Это точно. Вносит.
Б. Но ты на жизнь не вали! Ты голова был, спокойный, дотошный, что я, не помню! Тогда еще говорили: не будь лежачим камнем, умей добиваться!.. Эх, журавеле… журавлелов в небе.
Беседа приобретает некоторую бессвязность, которую можно отнести за счет алкоголя. Каждый следует скорее мыслям собственным, чем отвечая собеседнику. Впрочем, такой стиль позволяет яснее понять их настроения.
А. Пиджак у тебя шикарный.
Б. Лайка. У нас – четыреста рублей. Дочь из ГДР привезла.
А. Это – она в Киеве?
Б. Преподает в университете.
А. А внуки?..
Б. Двое.
А. У нее дружная семья. Да?
Б. (крохотная пауза). Хорошая семья.
А. Это замечательно.
Б. А у тебя?
А. А у меня? Да. А у меня – я. Холостяк. Я говорил, да?
Б. Ах, гуляка!
А. (горестно). Я не гуляка. Я – так… я – чижик… Вот у тебя было… и семья… а я старый неудачник!..
Б. Думать надо! Бороться надо! (Неискренне обнадеживает). Может, еще женишься?
А. У тебя и сын в Ленинграде…
Б. (с теплотой). Год назад Горный институт кончил. Сейчас в Метрострое, к Новому году вот премию получил. Собирается в будущем году в аспирантуру.
А. Ты – победитель, да?
Б. Гм. Бр. А что ж.
А. Да! Вот… Слушай, а зачем ты здесь?..
Б. (похлопывает его по плечику). На второй круг пошли. Рассказывал же. Пошли трения в институте, мне надоело… горите вы все, думаю. Жалость и презрение: старички, сосущие проценты с прошлого. Хромает такой задохлик по институту, восемь месяцев из двенадцати помирает и оклемывается, что и знал – перезабыл… грех один… Нет! – красиво и вовремя. Людям не мешать и самому в удовольствие пожить. Доктор я? – доктор. Директор? – директор. Награды имею? – имею. Право на отдых заслужил? – горбом заработал. Живу хорошо? – как бог в отставке. Пенсии двести, и сбережений на мой век хватит, дом в саду и машина в гараже.
А. И качалка на веранде.
Б. Да.
А. И цикады стрекочут.
Б. Стрекочут, стервы.
А. И запах магнолий. И море шумит.
Б. (возможно, подозревая иронию, но не желая допускать подобной мысли). Ах, старина… Вот сидим мы с тобой сейчас… Неважно все это… Время все уравняет… Как подумаешь иногда – а зачем оно все было… зачем ломался, уродовался… Может, ты-то правильней жил… Спокойно…
А. Что было – всегда с тобой. Есть такая гипотеза – живешь всегда во всех своих временах.
Б. (абсолютно согласный). Полагаешь?
А. Ты жизнью доволен?
Б. Да.
А. Вот.
Б. (утешает). Не надо ни о чем жалеть!..
А. Сейчас посмотрим.
Б. Что?
А. (Бледнеет. Смотрит ему в глаза долгим трезвым взглядом. Тишина буквально материализуется до синевы и звона. Странное жутковатое ощущение возникает. Словно безумием пахнуло.) Ты – помнишь – двенадцатое – января – тридцать – шестого – года?
Б. (слегка завороженно). Нет…
А. (гипнотическим голосом). Угол Мира и Демушкина. Пятый этаж. Комната.
Б. Ф-фу, господи! Ну конечно! Как ее звали-то… Да Зинка! Акопян, Чурин!..
А. А вечер двенадцатого января? Зима, снег, патефон, Лещенко.
Б. А что тогда такое было-то?
А. Ты – в сером костюме. Акопян принес коньяк. Елка. Танцевали и уронили елку. Она стояла в ведре с водой, ведро опрокинулось, воду подтирали.
Б. Смутно… Черт его знает… Нет, наверное… Допустим. А что?
А. Ты не помнишь, что было тогда?
Б. (в недоумении от его тона). Да нет же… А что?
А. Совсем-совсем не помнишь?
Б. (чистосердечно). Клянусь – нет.
А. Размолвочка вышла…
Б. (со смехом). Какая даль, боже мой!.. Не подрались?
А. (мрачно). Куда там… мне с тобой. Да и твое обаяние… все симпатии были на твоей стороне. Ты всегда умел – выставить недруга ослом и мерзавцем.
Б. Дружи-ище! что за воспоминания! Клянусь – ничего не помню! Ну хочешь – хоть не знаю за что – попрошу сейчас у тебя прощения? Ну – хочешь? Кстати – в чем было дело-то?..
А. (с театральной торжественностью). Поздно.
Б. Верно!..
А. Поздно. (Вертит рюмку, опускает глаза). Ты – ты не помнишь… Что для тебя… оскорбление походя, право победителя… Были времена – я должен был бы убить тебя или застрелиться. А ныне – ничего, глотаем и утираемся…
Б. (холодно). Ты, похоже, не умеешь пить. Никогда, припоминаю, не отличался.
А. С тех пор я многое умею. Будь спок. (Наливает).
Б. (отчужденно). Твое здоровье.
А. Твое понадобится тебе больше.
Б. Чувствую, нам лучше расстаться сейчас. (Делает движение, чтобы встать).
А. (удерживает жестом). Прослушайте десьтиминутную информацию. Так ты не помнишь? Начисто? Я так и подозревал. Ладно… (Откидывается на стуле, глубоко переводит дыхание, закуривает. На лице его появляется улыбка, которая в сочетании с угрюмым выражением придает ему неожиданную жесткость, даже властность.) Начнем.
Ты помнишь Ведерникова, не правда ли?
Б. Слава богу. Естественно. Был у него несколько раз на приеме в Москве.
А. Знаю. (Неожиданно показывает Багулину фирменную этикетку на изнанке галстука. Этикетку на внутреннем кармане пиджака.) Нравится?
Б. Англия… То что надо.
А. На инженерскую пенсию, мм? Уда-ачник… А фамилия Забродин говорит тебе что-нибудь? Из аппарата референтов Ведерникова?
Б. Слышал, похоже…
А. Прошу (протягивает паспорт).
Б. (озадачен). Не понимаю…
А. Я сменил фамилию перед войной. Взял фамилию жены. По некоторым обстоятельствам.
Б. (еще не осознал). Ты-ы?!
А. К вашим услугам. Ведерников два года как помер. Ушел и я. У новой метлы свой аппарат.
Б. Ты – Забродин?
А. Осознал, похоже. Далее. Улавливаешь, нет? Ведерников тебя не слишком жаловал, а?
Б. Сволочь был первостатейная.
А. (укоризненно). К чему категоричность. Деловые отношения!.. У такого человека всегда аппарат – своего рода фильтр-обогатитель между ним и сферой его деятельности. А в аппарате тоже люди. Большинства пружин, ты, естественно, не знал. А я – не главный был винтик, но – в центральном механизме.
Вникаешь?
Когда в сорок восьмом году ты не получил комбинат, а прислали Гринько – это были просто три строки в докладной записке Ведерникову. Как и кем составляются записки – ты общее представление имеешь. А Гринько был, в общем, здорово нужен на Свердловск! Но – ма-аленький доворотик в начальной стадии движения. Ты ведь прицеливался тогда на комбинат – а он был фактически у тебя в кармане уже.
Б. (ошарашенно и недоверчиво). Ты… ерунду ты городишь!..
А. Хорошенькая ерунда! Гринько принял комбинат, ты стал замом, и после первого же квартала он свалил на тебя все шишки – он-то новый, а ты сидел уже два с половиной года. И тебя удвинули в Кемерово – где ты абсолютно правильно сориентировался, перешел в КТБ и занялся наукой.
Б. (говорить ему, в общем, нечего). Та-ак…
А. (в тон ему). Та-ак… И написал кандидатскую по расчетам нагрузки кабелей, и ВАК промариновал ее два с половиной года, та-ак?
Б. Ну…
А. Тпру!.. И за это время Плотников защитил в Москве свою диссертацию: фактически твой метод с расширенным применением. И его заявка была признана оригинальной, и ты остался даже без приоритета, а тема эта стала Плотниковской, и он сделался на ней член-корром! Как тормозится диссертация в ВАКе, тебе, надеюсь, не нужно долго объяснять. Что Плотников работает на Ведерникова, ты тоже, если и не знал, то мог догадываться. А кто приложил руку, чтобы ты не проскользнул? Пра-авильно…
Б. Слушай… Погоди… Слушай!.. (машет рукой протестующе, как бы пытаясь задержать).
А. (с лицемерной печалью). Мне очень жаль, что ты не помнишь то двенадцатое января на Демушкина. (Стукает ладонью по столу, начальственно и уверенно.)
Ты защитился, и как раз пошло расширение. И твое КТБ логично должно бы было отпочковаться и расшириться в институт. А вместо этого был создан однопрофильный институт в Омске! Ай-яй-яй какая досада, а? И сел на него Головин! И сейчас Головин – в министерстве! Ведерников? А что ему: «Доложить!» Естественно – доложил. Оч-чень, кстати, он мою память ценил. И благодаря моей памяти Каплин не взял тебя в Челябинск. А Плотников за это время стал доктором и получил Государственную! Так?
Б. Ну… (совершенно смят, растерян и потерян).
А. Щербину помнишь?
Б. Зав по кадрам?
А. Именно. Двоюродная сестра моей жены была его женой. Понял?
Б. Вот ка-ак…
А. И ты опять крутнулся, и перебрался в Красноярск, и скромно сел на отдел – отдел! Отдаю тебе должное – перспективный отдел, точно рассчитал. И защитил докторскую ты только в шестидесятом году – а был тебе уже пятьдесят один, и перспективным ты быть потихоньку переставал. И ВАК продержал твою докторскую еще четыре года, и когда ты в шестьдесят втором получил институт – это был потолок. Потолок!
Б. (с выпущенным воздухом). Во-он оно что…
А. В шестьдесят восьмом тебе представился последний шанс, помнишь? Симпозиум в Риме через доклад в Москве, опять же через Ведерникова; определение основного направления дальнейших работ. И ты не поехал. Поехал Синицын. И кончилось тем, что Синицын тебя съел.
Вот и вся твоя карьера.
Б. (тупо). Я всегда чувствовал… Я всегда предполагал… Чья-то рука…
А. Верно чувствовал. Продолжаю. Раздел мелочей быта. Только, прошу, без эксцессов. Ну – когда ты еще такое узнаешь, а? Гамбургский счет. Мне, видишь ли, немного обидно, что ты совсем забыл тот вечер двенадцатого января.
Да. Мне всегда нравилось на тебя смотреть: такой красивый, уверенный, такой любимый женщинами. Рога очень тебе идут. Вообще когда жена на двенадцать лет моложе – это чревато, ты не находишь?







