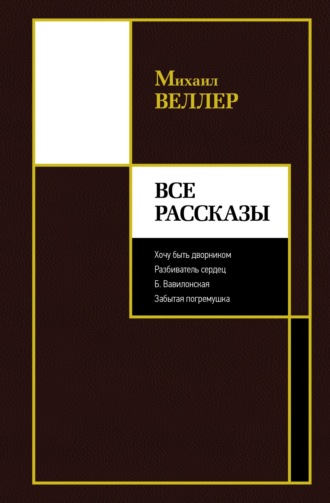
Михаил Веллер
Все рассказы
Травой поросло
Со своими соседями я не желаю иметь ничего общего. Кроме коммунальной квартиры, общего ничего и нет. Что до контактов – я лучше французским владею, чем они русским. Во всяком случае, со своими туристами я нахожу язык гораздо легче.
И не обменяться – никто не поедет: жильцов много, на кухню лестница, ремонта давно не делали. Да и вряд ли в другом месте лучше будет. И самому жалко: привык, и условия-то хорошие – центр, все удобства, окно у меня на улицу Софьи Перовской, а что пятый этаж (без лифта) – так солнце по утрам, а лифт мне и даром не нужен.
Пожалуйста: вчера вернулся с Байкала с группой, которую две недели назад принял в Киеве. Проводил их на самолет, написал сразу отчет и приволок ноги домой. На моей двери – привет от соседушек: в одиннадцати пунктах перечисляется не сделанная мной пять дней назад уборка и в резюме приводится угроза передать дело в товарищеский суд.
Я летом и дома-то не бываю. Пять дней назад в Алма-Ате мои французы рубали на базаре сахарную вату и лепешки и таращили глаза от жары. Отличные ребята, преподаватели из Сорбонны. И вот вам отдых: пожалуйте в Воронью слободку.
В семь утра – грохот в дверь (Полине Ивановне диск бы метать, а не болячки лелеять): «К телефону-у!..» – и комментарий для коридора: «Спозараночку девки звонят! когда и кончится…» – и шлеп-шлеп-шлеп: «Устроил притон из квартиры…»
Знакомые полагают, что раз ты живешь в центре и один – то сейчас они принесут тебе радость на дом. И несут, – только успевай стаканы мыть. Иностранцы, кстати, завидуют: как это у вас запросто, человечно. А по-моему, человечней приходить с приглашения хозяина. Так что их стиль общения представляется мне правильней.
Вылезаю я, путаясь в джинсах, в коридор, беру трубку, глаза – как песку насыпали.
– Владик, – интересуется женский голос, – как вы себя чувствуете?
Отлично, отвечаю, себя чувствую. Особенно сон отличный. Так что благодарю, пошел досыпать. Разговорчики в семь утра.
Пауза.
– Это Орех говорит. – (Тьфу, черт! В ее манере… Генеральный диспетчер.) – Я вас не разбудила? – (Что вы, что вы! Уже зарядку сделал…)
Надо принять индивидуалов. Супружеская чета из Франции. У них сегодня поездка за город, излагает далее Генеральша.
Ясно. Отдых. Съездили на пляж. Да-да, конечно, лето, переводчиков не хватает, ага. Ведь можно было бы утрясти все вчера, нет же! – а ты отдувайся; вечная история.
Они в «Европе». И то ладно – рядом. К восьми пятидесяти. Хорошо, Тамара Леонидовна.
Я и переводчиком-то быть никогда не собирался. Иногда мне кажется, что все люди – специалисты поневоле. Кроме отдельных личностей, с пеленок чувствующих призвание. Такие уже в детский сад ходят полные оптимизма, что для того и рождены. Все же нормальные дети, по-моему, только и думают, как бы увильнуть от детского сада, потом от школы, потом от лекций и колхоза. Но поскольку природа, как известно, не терпит пустоты, то увиливаешь от одного – попадаешь в другое. Я увильнул от математики с физикой – и поступил на филфак. Увильнул от преподавания в школе – и пошел в «Интурист». Но закон втягивания срабатывает четко: стремишься делать дело рационально, находишь в нем положительные стороны – и оказываешься на хорошем счету.
Вышел я злой. Но в ярком утре еще не вся исчезла прохлада; квартирные проблемы пока снимались; с индивидуалами работать приятнее; все улеглось. Мне нравится работать с индивидуалами. Короткие отношения – в меру. В отношениях между людьми всегда необходима оптимальная дистанция. «Они» эту дистанцию чувствуют и держат прекрасно. Взаимное уважение людей, не лезущих в жизнь друг друга. Какой-нибудь босс общается с тобой как с равным, в то время как у нас любая старуха-соседка стремится продемонстрировать, что она значительнее тебя.
В холле было много наших – время завтрака и разъезда. И хотя профессиональный стиль – «не отличаться», – определялись безошибочно: в тех же джинсах и майках, с длинными прическами, американскими сигаретами, парижским и верхненемецким произношением, – отличались!..
Супруги Жанжер выглядели молодцом. Симпатяги лет под шестьдесят – стало быть за семьдесят. (Известная черта: у иностранцев нет стариков, в нашем понимании. Есть пожилые люди, следящие за собой. Когда прошловекового выпуска мэм сверх здравого смысла молодится – неприятно; но симпатично нежелание капитулировать перед временем.)
Уселись в интуристовскую черную «Волгу». Пушкин, Петродворец, Ломоносов?.. привычное дело: бензин наш – идеи ваши. Я обернулся:
– Куда мадам и мсье желают поехать?
Они переглянулись.
– Скажите пожалуйста, мсье Владлен, – спросил Жанжер, – лучшие цветы в Ленинграде по-прежнему продаются на Кузнечном рынке?
Я несколько удивился.
– Спекулянты, – радостным голосом сказал водитель. – Грузинские агенты.
– Вы хорошо осведомлены, – констатировал я с невольной улыбкой. – Трудно сказать, лучшие ли, но самые дорогие – да, пожалуй.
Мы поехали по Невскому.
– У вас стало больше машин на улицах, – привел любезность Жанжер…
– Он сказал, что у нас люди стали лучше одеваться или машин на улицах стало больше? – поинтересовался водитель.
– Машин больше, – подтвердил я.
– И не вижу в этом причин для энтузиазма, – выразил свое мнение водитель. – А вообще у них огромный запас тем для разговора.
Наш запас не больше; я промолчал, не поощрил подступа к столь же оригинальным замечаниям об этих, с фотоаппаратами, матрешками, и о широкой русской душе. В любом общении своя степень условности, необходимая для дистанции комфорта.
Супруги поглядывали по сторонам, не задавая вопросов.
– Вы уже бывали в Ленинграде?
– Последний раз мы были здесь семь лет назад, – сказал Жанжер.
– Семь лет, – откликнулась мадам.
– Вот и цветики, – объявил водитель, пристраиваясь в заполненном переулке, выключил зажигание и сам выключился, – профессиональное.
На Кузнечный рынок не стыдно везти кого угодно. Там видно, что все у нас растет, и созревает, и продается, – без очередей и на выбор. Что я и не преминул в шутливой форме заметить Жанжерам; они готовно согласились; мы прошли вдоль цветочного ряда: отсветы благоухающего спектра облагораживали ражие рожи стяжателей. Возбуждаясь, они заводили глаза, цокали, надвигаясь профилями горцев, и воинственно потрясали букетами, демонстрируя непревзойденное их качество. В этой разнопахучей и гулкой толчее мы пополнились снопом белых гладиолусов, алых гвоздик и лимонных роз, и обошлось это удовольствие супругам Жанжер в восемьдесят шесть рублей, или пятьсот тридцать восемь франков по обменному курсу. Я не удержался, подсчитал. Хотел бы я знать, куда им такая прорва цветов?
– Пожалуйста, дарагой, – щедро осиял зубами расплатившегося Жанжера небритый абрек. – Замечательные цветы, на здоровье. На свадьбу столько, да?
– Он сказал, что его цветы – лучшие, пожелал вам здоровья и высказал предположение, что вы покупаете их для свадьбы, – счел уместным перевести я.
Они опять переглянулись без улыбки; я усомнился в уместности своего перевода.
– Они желают бросать их под ноги восхищенному населению, или везти в Париж и там продать, но уже дороже? – осведомился водитель, когда мы погрузились. – Сумасшедшие миллионеры… Куда?
– Куда мы сейчас поедем? – спросил я, сам интересуясь.
Жанжер достал карту. Там было обведено.
– Сте-па-шкино.
Водитель также ознакомился с картой и сложил губы, чтобы присвистнуть.
– Степашкино-какашкино, – сказал он. – Вот счастье привалило – трюхать по пылище в такую жару. Что там такое?
Я знал не больше его. Молчание с ясностью снимало расспросы. Имеют право – за все уплочено: Степашкино так Степашкино.
– Гастролеры… – пробурчал водитель и раздраженно воткнул скорость.
А я пришел в хорошее настроение. Мне нравилась их нестандартность. Никаких фонтанов, никаких фотоаппаратов: покупаем цветов на сто рублей и едем в Степашкино. Нормально.
С детства считаю, что мужчина не должен задавать вопросов. Надо, захотят, – сами скажут. Твой такт – твое достоинство.
Сидеть было удобно. Курил я, испросив согласия мадам, «Житан», крепкие и с горчинкой. Жанжер сказал, что в молодости курил тоже «Житан». Он угостил нас с водителем резинкой. Проехали «Союзпушнину». Я сказал, что студентом подрабатывал на аукционах. Они поинтересовались ценами: о, во Франции меха дороже. Проехали памятник Ленинградской эпопее, я сказал о нем, они смотрели молча. Выехали на Гатчинское шоссе, водитель придавил газ на сто пятнадцать, окно зашторилось шелестом ветерка.
Солнце лезло вверх. Делалось все жарче. Дорога начала тяготить.
– Нача-лось, – процедил водитель. Свернули на грунтовку. Место шло голое. На колдобинах покачивало. За пыльным шлейфом обогнали грузовик, там женщины повернули выгоревшие косынки, в этот момент было приятно сидеть на своем месте, выставив локоть в окно черной «Волги» с интуристовскими крылышками на лобовом стекле.
Мадам тихо спросила, далеко ли еще. Я ответил, что минут тридцать. Водитель стряхивал капли со лба. Я пожалел Жанжеров. Его кремовый костюм местами темнел. Ее, похоже, слегка укачало; бледная под гримом, она обмахивалась промокшим платком.
– Мадам нехорошо? Мы сделаем остановку?
Слева осталась рощица. Нет, они не хотели останавливаться. В тени бы, на травке… Торопятся они куда…
Машина раскалилась. В автомобильной духоте цветы дурманили. Позже выяснилось, что это был самый жаркий день даже этого, необычайно жаркого лета.
Степашкино оказалось – два десятка неказистых домиков у озерца, заросшего осокой. Белье мертвело в пустых дворах: безмолвие и зной.
Жанжер зашевелился, посмотрел:
– Вот туда, пожалуйста.
Остановились за селом. Берег поднимался отлого, наверху тополь – старый, приметный.
Я помог им выбраться с их цветами. Они очень заботились о цветах. Пиджак у Жанжера со спины был мокрый, зад брюк тоже. Жена постояла, держась за его локоть, и достала зеркальце.
Водитель сел на траву у обочины.
– И тени-то нет!.. – Он стащил чехол с сиденья и швырнул на самый припек, улегся, шумно вздохнул.
Я размял ноги. Супруги тихо совещались. Я отошел, чтобы не мешать.
– Мсье Владлен, – позвала наконец жена. – Вы бы не согласились нам помочь?
Почему нет? За это нам и платят.
– Проводите нас, пожалуйста.
Мы медленно поднимались втроем. Я предложил понести цветы; они вежливо поблагодарили и несли сами. Хотел бы я знать, в чем заключалась моя помощь?
Дошли до тополя. Жена взглянула на мужа.
– Спасибо, мсье Владлен, – произнес он. – Дальше мы пойдем сами.
Отойдя, Жанжер передал ей все цветы, вытащил из бумажника листок и фотографию и стал сличать что-то, глядя на дерево и по сторонам. Потом сделал еще десяток шагов и остановился, и она подошла к нему с цветами.
И вот представьте себе картину: зной оглушающий, ни души, за желтым полем на пустоши коровы пасутся и слышно, как ботала их брякают, трава редкая, выжженная, – и на эту вот землю женщина опускает цветы, сама опускается, и по спине ее видно, что она плачет. А мужчина стоит рядом, склонившись, и вытирает глаза и все лицо платком.
Я отвернулся и пошел вниз к машине.
Иногда находит ужасное детство; но только я закурил у Саши (водителя) «Опал» вместо своих «Житан».
…Проехал тот грузовик, и по сидящим в нем я понял, что французы возвращаются, и понял, зачем надо было их проводить…
Неловкость вынужденного знания исказила атмосферу, словно в воздухе между нами проступили невидимые ранее связи. Жанжер негромко попросил остановить где-нибудь напиться: мадам плохо.
Притормозили у колодца. Я откинул крышку: из глубины пахнуло. Ворот раскрутился, ведро гулко плюхнуло, цепь напряглась; в обратном движении ворот мерно поскрипывал; появилось ощущение чего-то рекламно-ненастоящего: деревенский пейзаж, черная «Волга» и иностранцы, пьющие воду у колодца.
Старуха следила из калитки. Я подошел и поздоровался.
– Что раньше было – над берегом, где тополь?
– Да и ничего не было…
– В войну, не знаете?
– Своих хоронили немцы, – открыла она мне уже известное.
Жанжеры ждали. Старуха присела на скамейку у забора. И я сел, с чувством «назло всему».
– Вот – привез дьяволов, – сказал я и устыдился: будто желаю отмежеваться от них и подольститься к старухе.
Она не отозвалась, пожевала.
– Что ж, своего, значит, проведать… – Ее морщины были спокойны… – Не осталось могилки-то.
Я пошел на свое место.
Ехали молча. Мадам всхлипывала изредка. Машина превратилась из духовки в пыточную камеру. Я единственно мечтал, как приму в прохладном полусумраке квартиры холодный душ. Каково приходилось им… я бы пожалел их, наверное, если б не было так жарко.
Попросили: Саша остановил у куста. Жанжер бережно устроил жену в тень. Мы сели рядом: другой тени не было тут. Я собирался с духом, чтобы уйти курить на солнце.
Надолго запомнится им эта поездочка. По их возрасту – последняя, может статься.
– Мы из Эльзаса, мсье Владлен, – глуховато выговорил Жанжер… – В Эльзасе немцы забирали всех молодых. «Солдаты поневоле» их называли. Он был наш единственный сын, Патрик. Он был сапер, – добавил он, неловко повисло полуоправдание, зачем?
Добрались легче. Мы отдохнули. Мадам успокоилась.
Расстались у гостиницы. До завтра я Жанжерам не требовался: они улетали утром. Вернувшись к себе, я упал и заснул.
Проснулся в сумерки. Долго лежал в том особенном блуждании неясных мыслей, когда просыпаешься неурочно, не сразу вспоминая, какое сейчас время суток и что было перед этим. Цветы, наверно, уже завяли. Н а ш и цветы. Или их растащили деревенские пацаны. В своем номере о н и сейчас как? Погиб ли кто в войну у старухи? С кем теперь буду работать? Провожу их завтра за вертушку в аэропорту: мы посмотрим друг на друга, и Жанжер поймет, что презенты переводчику здесь неуместны. Или, предвидя, передаст для меня диспетчеру; ей и останутся тогда. Ерунда какая…
Голубь прочеркнул окно. Я встал и умылся.
Миновав соседей, спустился на улицу. Небо выставляло свою ювелирную витрину. Фонари тянулись парами. На лицах проходящих девчонок ясно читались будущие морщины, – такое уж было настроение. Я соображал, куда б мне пойти. Быть одному не хотелось, но ни с кем, кого я знал, мне тоже сейчас не хотелось быть. У меня часто так бывает.
Все уладится
Все уладится
Понедельник – день тяжелый, уж это точно. Но вторник выдался и того чище: Чижикова выперли с работы. Дело так было.
В понедельник с утра Чижиков успел поскандалить с женой, изнервничался, и когда пришел к себе в музей, все у него из рук валилось.
Значился Чижиков в шефском отделе по работе с селом, занимался координацией этой самой работы. В обязанности его входило договариваться с начальством других музеев об организации выездных экспозиций, с директорами совхозов – о размещении работников и экспонатов, с секретарями райкомов – о подстраховке директоров и с автобазой – о предоставлении транспорта. Собственно, весь отдел и состоял-то из него одного.
Поездки эти устраивались где-то раз в месяц, так что работы было немного, но и оклад у Чижикова был маленький, и он подрабатывал на полставочки экскурсоводом, водил группы по Петропавловской крепости. Жить-то надо.
Кстати, экскурсоводом он был хорошим. Вдохновлялся, трагические ноты в голосе появлялись, даже осанка становилась как-то элегантная и значительная. Нравилось такое занятие Чижикову; слушали его с интересом и жадно, что нечасто случается, и писали регулярно благодарности в книгу отзывов.
Так вот, значит, в тот злополучный понедельник все у Чижикова не ладилось. У него, правда, всегда все не ладилось. У директора совхоза вымерзли озимые, и было ему не до Чижикова, в райкоме все уехали на какое-то выездное бюро, прижимистые музеи экспонатов не давали, в трубке все время идиотски переспрашивали: «Что за Чижиков?» – трубка эта чертова телефонная аж плавилась у него в руке, и голос осип.
Но в конце концов удалось Чижикову все организовать, и так он этому обрадовался, совершенно измученный и потный весь, – что забыл позвонить на автобазу. Просто напрочь забыл. Ну и, естественно, все приготовились – а ехать и не на чем. Кошмар! Ну и, естественно, вызвал Чижикова директор на ковер. И наладил ему маленькое Ватерлоо.
– Я вас выгоню в шею! В три шеи!! – утеряв остатки терпения, орал директор. – Сколько же можно срывать к чертям собачьим работу и мотать людям нервы! Когда прекратятся ваши диверсии? – Негодование его стало непереносимым, он взвизгнул и топнул ногами по паркету.
Смешливый Чижиков не удержался и хрюкнул.
– Вот-вот, – устало сказал директор и опустился в кресло. – Посмейся надо мной, старым дураком. Другой бы тебя давно выгнал.
– Петр Алексеевич… – умоляюще пробормотал Чижиков.
– Работникам выписаны командировочные, директор совхоза собирает людей в клубе, секретарь райкома обеспечивает нормальное проведение мероприятия – а Кеша Чижиков забыл договориться с автобазой об автобусе. В который раз?
– Во второй, – прошептал Чижиков, переминаясь на широкой ковровой дорожке.
– А кто перехватил внизу и выгнал делегацию, которую мы ждали?
Чижиков взмок.
– Я думал, это посторонние, – скорбно сказал он.
– Кеша, – непреклонно сказал директор, – знаешь, с меня хватит. Давай по собственному желанию, а?
Чижиков упорно рассматривал свои остроносые немодные туфли.
– А кто обругал Пальцева? – упал тяжкий довод. – Это ж надо допереть – пенсионер республиканского значения, комсомолец восемнадцатого года, с Юденичем воевал!
– Ох!..
– Не мед характер у старика, – согласился директор. – Но он же помочь тебе хотел. А ты с ним – матом. Он – жалобу, мне – замечание сверху!..
– Я ведь извинялся, – взмолился Чижиков.
– А кто выкинул картотеку отдела истории пионерского движения? Алик ее четыре года собирал!
– Ремонт был, беспорядок, вы же знаете, – безнадежно сник Чижиков. – Глафира Семеновна распорядилась убрать лишнее, показала на угол – а я не разобрался.
– Вот тебе две недели, – приняв решение и успокаиваясь окончательно, резюмировал директор. – Оглядись, подыщи себе место, а к концу дня принесешь мне заявление об уходе.
– Петр Алексеевич, – Чижиков прижал руки к галстуку, – Петр Алексеевич, я больше не буду.
– Кеша, – ласково поинтересовался директор, – у кого на экскурсии в Петропавловке школьник свалился со стены, чудом не свернув себе шеи?
…За окном была Нева, здание Академии художеств на том берегу, почти неразличимый отсюда памятник Крузенштерну.
– Голубчик, – сказал директор. – Мне, конечно, будет без тебя не так интересно. Но я потерплю. Оставь ты, Христа-бога ради, меня и мой музей в покое.
Чижиков махнул рукой и пошел к дверям.
Исполнилось ему недавно тридцать шесть лет, был он худ, мал ростом и сутуловат. Давно привык к тому, что все называют его на «ты», к своему несерьезному имени и фамилии, которые когда-то так раздражали его, привык к вечному своему невезению, к выговорам, безденежью, к тому, что друзья забыли о нем.
Он не стал дожидаться конца дня, написал заявление, молча оставил его в отделе кадров, натянул пальтишко и вышел на улицу.
Ревели в едучем дыму «МАЗы» и «Татры» на площади Труда. Чижиков медленно брел по талому снегу бульвара Профсоюзов, курил «Аврору», вздыхал, пожимал на ходу плечами.
В «Баррикаде» он взял за двадцать пять копеек билет на новый польский фильм «Анатомия любви». Подруги жены фильм усиленно хвалили, но возвращалась жена с работы поздно, и все было никак не выбраться в кино.
Фильм Чижикову не понравился. Актрисы все были милые и долгоногие, главный герой крепколицый и совестливый, они увлеченно работали, модно одевались, жили в просторных квартирах, и какого лешего они при этом дергались и закатывали сцены, оставалось совершенно неясным.
Потом он отправился в Русский музей. На выставке современных художников увидел он замечательную картину: в тайге, на опушке, стоит маленький бревенчатый дом, струится дымок над крышей, рядом бежит прозрачный ручей, и треугольник каких-то птиц – гусей, наверное, – или лебедей? – тянется на закат. Картина Чижикову понравилась чрезвычайно. Он долго стоял перед ней, все вздыхал; ему представлялось, как хорошо было бы жить далеко в лесу, в такой избушке, топить печку, подкладывая поленья в дружелюбный огонь. Он купил бы себе двустволку и ходил на охоту, стрелял бы тетеревов на полянах, а может быть, и оленей. Зимой можно кататься на лыжах, а летом купаться в ручье, ловить рыбу, собирать ягоды и лежать в щекочущей траве, смотреть, как плывут в небе косяки птиц из знойной далекой Африки в северную тундру.
– Сколько можно говорить, что музей закрыт!
– Что?!
– Закрыт музей! – закричала смотрительница и замахала руками. – Идите, пожалуйста, на выход, русским языком вам сколько уже долдоню!
Чижиков подумал, что надо идти домой, и на душе у него стало плохо.
Стемнело уже, на тротуарах стояли грязные талые лужи, туфли у Чижикова промокли. Завернул в гастроном – продукты обычно он покупал – но какая-то усатая толстая старуха нахально влезла перед ним в очередь, продавщица наорала на него, что чек не в тот отдел, он совсем расстроился, сдал чек в кассу и ушел.
А зашел он в винный магазин на углу Герцена, выпил залпом два стакана вермута, подавляя гадкое чувство, и пешком, не торопясь, зашагал к себе на Петроградскую.
Медленно поднялся он по истертой лестнице на пятый этаж. Тихонько открыл тугую дверь. На кухне соседка Нина Александровна жарила какую-то чадящую рыбу. Она тут же зашевелила чутким носом, уставила на Чижикова круглые злые глаза болонки.
– Пьяный явился, – нехорошим голосом констатировала Нина Александровна.
– Ну что вы. – Чижиков заискивающе улыбнулся, старательно вытирая ноги.
– Нарезался, милок! – наращивала Нина Александровна. – Вот так и живешь в одной квартире с алкоголиками! Ночами, понимаешь, курит, топает в коридоре, кашляет под дверью, а днем пьет!
– Молчать!! – белогвардейски гаркнул Чижиков, меняя цвета лица, как светофор.
Глюкнула Нина Александровна, забилась в угол, тряся крашеными кудельками. Победно топая, прошествовал Чижиков к своей комнате по узкому коридору.
– Ах ты паразит! – взбеленилась Нина Александровна вслед. – Я к участковому пойду, я квартуполномоченная, я тебя выселю отсюдова, пьяная морда!
– Расстреляю! – Чижиков запустил в нее резиновым сапогом и вошел в комнату.
Фамилия Нины Александровны была – Чижова, и Чижикова этот факт приводил в бешенство.
В комнате Илюшка, сынок, готовил уроки. Блестели очки в свете настольной лампы, топорщились красные уши. Остался, бедолага, во втором классе на второй год. Эх, ушастенький-очкастенький ты мой. Чижиков подошел к сыну, погладил по голове.
– Учись, сынок, учись. Перейдешь в третий класс – велосипед куплю, как обещал.
– «Орленок»?
– «Орленок».
Сын поковырял в носу. Доверчиво прижался к Чижикову.
– Пап, а когда мы переедем на новую квартиру?
– Скоро, Илюшка. Совсем уже скоро очередь подойдет – и переедем.
– Через год?
– Примерно.
– Это же так долго – год!
– Ты и не заметишь, как пройдет. – Чижиков похлопал сына по плечику. – Весна, лето, осень – и все.
– Па-ап, а мы поедем летом на юг? Толька Шпаков ездил, говорит – так здорово.
– Поедем, – решил Чижиков. – Обязательно поедем.
Да, подумал он, возьмем и поедем.
– Есть хочешь? – спросил он.
– Ага.
– Сейчас я чего-нибудь нам сварганю.
Эх, а замечательно было бы пожить в той лесной избушке! И с сыном вдвоем можно…
Жена пришла только в девять часов, когда они на пару смотрели телевизор. Хлопотная работа там, на киностудии. Но она ведь бухгалтер, что ее так задерживают?
– Так, – сказала жена. – Телевизор смотрят, а посуда грязная на столе стоит.
– Ну, Эля, – примирительно забурчал Чижиков. – Сейчас я помою, ну… не волнуйся.
– Еле ноги домой приносишь, а тут грязь, опять впрягайся. Да что я вам, лошадь, что ли?
Илюшка сжался и опустил глаза в пол.
– Через месяц кооперативный дом сдают, – мстительно сообщила Элеонора. – Хомяковы переезжают.
– Что ж поделать, если у нас нет денег на кооператив? – рассудительно сказал Чижиков. – Скоро получим по городской очереди.
– Твое скоро… – тяжело сказала она. – Другие зарабатывают. На Север вербуются, на целину. Вон Танькин муж полторы тысячи привез за лето – строили что-то под Тюменью. А ты разве мужчина? Одно название…
– Ну, Элечка, – пытался Чижиков свести все вмировую. – Вот все-таки сапоги итальянские купили тебе осенью. Шуба, опять же…
Элеонора осеклась, отвела взгляд. Лицо ее пошло пятнами.
– Дурак, – с ненавистью процедила она.
– Наверное, – вздохнул Чижиков и пошел на кухню мыть посуду.
Перед сном жена вздрогнула и отстранилась, когда он приблизился; груди ее просвечивали под голубым нейлоновым пеньюаром. Чижиков безропотно поставил себе раскладушку между столом и телевизором.
Ночью долго курил в коридоре, стряхивал пепел в щербатое блюдечко. Все чудилась избушка, запах тайги, студеный быстрый ручей, клики гусей в вышине… Наваждение – аж горло перехватило, голова закружилась даже. Оперся рукой о стену, что-то округлое почувствовал, сжал машинально. Отнял руку, взглянул. Непонятный фрукт лежал в руке.
Чижиков понюхал его. Фрукт пах затхлью и клеем. На ощупь был шершавый, как картон, и легкий. Сжал сильнее в пальцах. Фрукт слегка продавился, но соку не было. Чижиков попробовал куснуть его. Противно, опять же вроде картона.
Хм. Он всунул фрукт обратно в стену. Тот повис отдельно от грозди, черенок торчал в сторону. Чижиков пристоил его поаккуратней… Потом с интересом стал менять грозди местами. Одобрительно обозрел беспорядок в обоях – и просиял от удачной мысли.
Откинув голову и скрестив руки на груди, эдакий художник у мольберта, он прицелился взглядом в дверь Нины Александровны – и принялся за дело. Из фруктов выложил холмик с могильным крестом, грозди разломал и составил короткую малоприличную эпитафию. Оценил творческим оком свое произведение, подмигнул, покурил, посоображал кое-что. И довольный отправился спать.
Улегся он шумно, не заботясь, что визжала и дренькала хлипкая раскладушка.
На работу Чижиков с утра не пошел – все равно ведь. А припоминая, листал старые записные книжки, отыскал телефон одноклассника, ставшего сравнительно известным в городе художником, и напросился в гости.
Художник трудился на верхнем этаже старого дома по улице Черняховского. Свет проходил в стеклянный косой потолок, олифой пахло и пылью, инвентарь художнический разнообразный повсюду валялся.
– А-а!.. – встретил он Чижикова, подавая белую длиннопалую руку с блестящими ногтями. Рука настоящего художника, с уважением отметил Чижиков, пожимая ее.
– Добрый день, – дипломатично поздоровался он, не зная, на вы быть или на ты.
– Здорово, Кешка, старик, – душевно сказал художник и заулыбался. – Рад тебе, рад. Так, знаешь, приятно, когда через двадцать лет школьные друзья о себе напоминают.
– Я тоже, – сказал Чижиков, – я здорово рад, Володя, – и еще с чувством потряс руку.
– Значит, за встречу, – художник достал из скрипучего шкафчика початую бутылку коньяка, сгреб тюбики и краски с края стола, обтер стаканы длинным пальцем. Со своей седой прядкой, в черном халате, из-под которого виднелись отутюженные брюки и замшевые туфли, очень он был импозантен.
– Со свиданьицем, – пропустили; художник пододвинул ему сигареты в пачке с верблюдом, щелкнул диковинной зажигалкой:
– Как живешь-то, рассказывай.
– Нормально, – сказал Чижиков. – Квартиру скоро должен получить.
– Это хорошо, – одобрил художник. – А мне вот, понимаешь, все приличную мастерскую не пробить. Бездари разные лезут вперед, а ты сиди тут в трущобе… – Он закрутил головой, завздыхал.
– Женат? – осведомился.
– Женат… Уж десять лет.
– Ну-у? – восхитился художник. – Молодец! И дети есть?
– Сын, – сказал Чижиков. – Во второй класс ходит.
– Молодчага! А у меня вот нет пока вроде, – хохотнул.
Чижиков заерзал.
– Так что у тебя за дело-то, выкладывай, – разрешил художник.
Не зная, как приступить, Чижиков огляделся. Подошел к мольберту. Солнце добросовестно освещало праздничными лучами уходящий вдаль сад. На переднем плане нарядная колхозница, стоя на лесенке, собирала с дерева персики.
– Гляди, – прошептал он…
И вытащил лесенку.
Дородная поселянка висела в воздухе. Лесенка постояла рядом с мольбертом и сама собой с треском упала.
– А? – торжествующе спросил Чижиков. Сорвал персик и положил на стол.
– Нет, – сказал художник, – так плохо. Мне не нравится. Тоже мне сюрреализм, ни то ни се.
Он машинально откусил персик.
– Экая дрянь! – сплюнул, поморщившись. – Синий какой-то внутри, – швырнул пакостный плод в угол. – Так и отравиться можно.
– Тебя ничего не удивляет? – опешил Чижиков.
– О чем ты? А-а… – Художник снисходительно усмехнулся. – У нас, брат, в изобразительном искусстве, – покровительственно объяснил он, – такие есть сейчас мастаки! Такие шарлатаны!.. Ты не подумай, я не о тебе, – спохватился он, – я вообще… Давай-ка еще по коньячку.
Озадаченный Чижиков выпил.
– Ты наведывайся почаще, – пригласил художник, – я тебе такого порасскажу!..
Вот так – так, размышлял Чижиков, спускаясь по лестнице. Вот ты незадача… С кем бы мне потолковать обстоятельней…
И на следующий день тем же манером отправился к Гришке Раскину, с которым они в пятом классе за одной партой сидели. Позже Гришка стал копаться в вузовских учебниках, выступать на всяких олимпиадах, очками обзавелся, времени не хватало ему всегда, и их дружба помалу иссякла.
Гришка работал в университетском НИИ физики, занимался проблемами флюоресценции и дописывал докторскую диссертацию.
Помяв Чижикова жесткими руками альпиниста – каждое лето Гришка уезжал на Памир, был даже, говорят, мастером спорта по скалолазанию, – он потащил его куда-то наверх по узким крутым лесенкам с железными перилами и вволок в маленькую комнатушку.
Чижиков уселся в закутке на обычный канцелярский стул и разочарованно огляделся.
– Что, – хмыкнул Гришка, – не похоже на лабораторию физика в кино?
– Да вообще-то я иначе себе все представлял, – сознался Чижиков.
Стены каморки были выкрашены зеленой масляной краской, точь-в-точь как у них в туалете. Черный громоздкий агрегат топорщился кустами замысловатых деталей, не оставляя почти жизненного пространства. На откидном столике в углу лежала конторская книга под настольной лампой, да два стула стояли.
– Ничего, – мечтательно потянулся Гришка, – осенью в новый комплекс переберемся, там просторно будет.
Был он тощий, лохматый, в роговых очках; по внешности – классический физик, точно из кино.
– Давай свое дело. Будем разбираться. – Он кинул взгляд на часы.
К этому визиту Чижиков подготовился основательней. И внутренне, и экипировался, так сказать.
– Я тут, похоже, одну штуку случайно открыл, – произнес он, смущаясь, отрепетированную фразу. Из бумажника вынул открытку. Брильянтовая капля росы красиво лучилась на тугом хрупком лепестке лилии.







