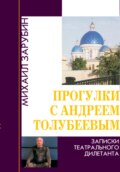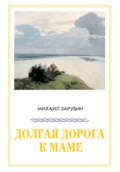Михаил Константинович Зарубин
Мы-Погодаевские
И вот Вовка Куклин говорит Вовке Петухову: «Слушай, ты бензином помочи ципушки, потом огонька сюда, они обгорят и пропадут». Целительное изобретение было единогласно одобрено. И Петухов промывает, Куклин чиркает спичку… Тут я соображаю, что еще мгновение, и парень загорится. Сгореть не сгорит, но ожог будет точно. И выбиваю спичку, а она падает на бензин, который мы поразливали вокруг, и вся машина вспыхивает. На меня кричат, я в ответ тоже кричу: «Дураки, я же Вовку спас», но куда там, огонь разгорается. Похватали ведра, бросились к реке, зачерпнули воду, плеснули, а пламя еще больше. Бензин же. Горит машина. Кузов у нее деревянный, колеса резиновые, все пылает. К нас бегут люди. Мы – врассыпную. (Хотя народ машину тушить бежал, а не за нами). Ребята на бегу опять мне пеняют: «Это ты, ты машину поджег!». Ну все, подумал, теперь не оправдаться – я главный поджигатель. А машина с лесхоза, дело подсудное. Жалко себя стало, а еще на праздник штаны получше надел, рубашку, тапочки старшей сестренки. Кому-то праздник, а мне? Что теперь будет? Домой не побежал. Вдоль леса и – не хутор у Илима. Там зимовье. Посидел, отдышался в нем. Вышел на берег. День солнечный, тепло, я один. Вижу, идут ребята постарше. Оказалось, это старшеклассники. Один из них был мне знаком, сейчас не помню его имени.
Рассказал им про свое горе. Один, которого я знал, пригласил в свой дом. родители его меня вымыли, накормили и уложили спать. А утром посоветовали больше не скрываться и вернуться домой. Мать же, говорят, переживает, ищет. Решил: будь что будет. Иду, дорога дальняя, до Погодаевой семь километров. А подошел уже к околице и вижу, бегут в мою сторону взрослые парни: ни слова не говоря хватают, меня в охапку и доставили в дом. Оказалось, мать действительно меня уже искала с милицией.
После праздников мне, поджигателю, на пионерском сборе предложили отчитаться, как все произошло. Отчитался: хотел как лучше, чтобы Володька не сгорел. В итоге наказали пострадавших водителей за то, что оставили свои машины без присмотра. Хотя они тоже, наверное, хотели, как лучше.
Смерть вождя
Начало марта 1953 года я запомнил благодаря товарищу Сталину. В это время, как всегда, зима боролась с весной, морозы стояли за тридцать. Через месяц мне семь лет. Я еще не школьник и потому, сделав свои дела по хозяйству – покормив собаку, поросенка, корову, доставив воду с реки, быстро забирался на свою любимую печку и отогревался.
В этот день Мила принесла из школы весть, что заболел товарищ Сталин. вечером, когда ужинали, только и было разговоров об этом. И не только у нас. Это было народное горе. Люди переживали за товарища Сталина как за родного отца, а не государственного деятеля. Причем искренне. Молились, только бы выжил. Каждый день я ждал сестер, а они приносили новости о состоянии любимого вождя одна другой хуже. А потом приходят совсем поникшие – умер. Рыдают.
Мать тоже громко заплакала. Потом все оделись и отправились через реку в Нижне-Илимск. У райкома партии было много народу. Никогда этого не забуду. Стоит у райкома первый секретарь, еще кто-то из свиты. Все рыдают навзрыд. И еще запомнилось: тишина, когда выплакались все. Только слышно, как гудят провода. Неизбывное горе. Кто-то сказал: «Хуже войны». Много позже я прочитал поэму Владимира Маяковского «Ленин», и там были такие слова:
Мороз небывалый
Жарил подошвы,
А люди днюют давкою
Тесной,
И даже от холода
Бить в ладоши
Никто не решается:
Нельзя, неуместно.
Такое же было и у нас: мороз, люди отчаянно замерзают, но уйти нельзя, все как у Маяковского, писал с натуры. Никогда больше – ни до, ни после – я не видел, чтобы люди так убивались по человеку из власти. Каким бы любимым в народе он ни был. Это сейчас мы относимся к власти попроще. Что она такое? Это, говорим мы, разного рода менеджеры, которых в цивилизованных государствах люди регулярно и на определенный срок выбирают, чтобы они лучшим образом организовали решение проблем нашего жизнеустройства. А тогда товарищ Сталин был единственный отец родной. И самый мудрый. Других нет и не будет. Потому что для всех нас и, наверное, для большинства в стране его кончина была как конец света. Я это точно видел.
Проба пера
Однажды на уроке русского языка мы писали сочинение «Как я провел лето». Я написал, как гонялся в лесу то ли за зайцем, то ли за ежиком. И не догнал его, конечно, как ни старался. Учительница потом одобрила несколько сочинений – в том числе и мое – и отправила их в «Пионерскую правду». Для нас тогда это было очень авторитетное издание. И вот однажды мне приходят грамота из этой газеты. Ее принесли в большом конверте. Она была необычайной красоты, от нее исходил неведомый мне до того запах типографической краски. Я загордился. Пока, конечно, не писатель, но уже близко к тому. Меня поздравили. В грамоте говорилось, что редакция меня отмечает как юного корреспондента. Из пяти или шести посланных в газету наших сочинений один я удостоился такого звания. А раз я теперь юный корреспондент, надо дальше писать. И я написал для газеты стихи следующего содержания. До сих пор их помню:
В небе летит самолет,
Его дальний, умный полет,
Летчик штурман ведет.
Он летит в облаках,
Он и в небе летит.
У него на руках
Планшет с картой лежит.
Отправил и жду публикацию. Вместо нее получаю письмо, в котором написано примерно следующее: мальчик, для того чтобы писать стихи, надо уметь их писать. Если можешь не писать, не пиши. Письмо пришло домой, в деревне о нем всем сразу стало известно. Прошел слух: почтальон сказал, что Мишке из «Пионерской правды» опять письмо. Все ко мне, ты скажи, что прислали, опять грамоту? Я помалкивал, делал таинственное лицо. О содержании письма знали только сестры. Но я с ними договорился молчать. Об этом никто не должен знать. И мои сестренки свято хранили тайну. А стихи, как выяснилось потом, я все же не мог не писать. Потому писал, сам читал их со сцены клуба строительного техникума, в котором после школы учился. И ничего, кое-что моим слушателям, похоже, нравилось. Но совет «Пионерской правды» пригодился. Я ему следовал, писал, только когда чувствовал, что не могу не писать.
Работа «по хозяйству»
В городе часто говорят: «Ребенка надо учить любви к труду». А в деревне такого что-то не слышал. Не помню. В то же время и я, и мои сверстники, как наши родители и прародители, – дети всех, надо полагать, поколений по этой цепочке – начинали помогать «по хозяйству» с ранних лет. Так принято в деревне сибирской. Сельского человека молча учит любви к труду сама природа. Он работает с ней, как с главным партнером. И даже не любит, учит – это, по-моему, не то здесь слово – взаимопониманию.
Сколько лет прошло, а до сих пор помню: наступает июль, и у меня, у моих друзей-малолеток уже «руки чешутся». В начале июля сенокос. Не раньше – не позже. К этому времени в самый раз подрастала трава. Никто не заставлял нас, не гнал в поле. Просто все знали, срок пришел. Хочешь иметь в достатке корм для своей животины и колхозной, чтобы она в свою очередь исправно весь год кормила тебя, – поспевай. Деревня в эти дни пустела. Взрослые – все на сенокосе. И мы с ними. потому что тоже уже не маленькие. Даже если бы не позвали, все равно пошли бы с ними.
Накануне формировались бригады по 10–15 постоянных косарей и подручных на одни и те же каждый год луга в Елань, на Дальнюю Тушаму, на Россоху. сенокос – дело исключительно мужское. Но в воскресные дни да в хорошую погоду приезжали нам помогать наши мамы и сестры. Тоже никто их не собирал, не направлял. Телефонов и даже радио в нашей деревне тогда не было. Они сами знали: сено подсохнет, его надо сгребать.
Когда все эти люди работали на лугах, это был праздник. Там мне, во всяком случае, тогда это виделось Зелень, вода, лес, кони и растущий на глазах «зарод» – так у нас называют стог. Без отдыха весь световой день, остановка на скорый обед, снова покос, а иногда вдруг чья-то песня… Помню, успевал сделать столько, что удивлялся – неужели это я сделал?
Нам редко поручали косить. Это дело все же взрослых, уже сильных, выносливых мужиков. Лишь иногда кто-то из нашего младшего состава удостаивался такого доверия. А когда удостаивался, для избранника это был как бы урок мужского взросления и выполнялся, конечно же, с необыкновенным прилежанием. Потому у нас (да и не только, конечно, у нас) в деревне с детства все мужское сословие было научено косить. А основная наша работа (и моя в том числе) состояла в том, чтобы отвозить сено, огораживать стога, выполнять самые разные срочные задания. И все это происходило в местах такой красоты, какой я больше нигде не встречал, хотя довелось немало попутешествовать по свету. Конечно, воспоминания детства, молодости всегда окрашены в яркие краски, где бы наши лучшие годы ни проходили. Но, даже делая скидку на это, без всяких чрезмерных преувеличений я вправе утверждать: Сибирь – край сказочный. А наша деревня была примерно в его центре. Здесь континентальный климат. Зимой – стужа, летом – жара. И такие же яркие контрастные краски в природе во все времена года. Темно-зеленая до черноты с голубым небесным отливом на горизонте тайга. Тоном светлее тяжелые кроны ближних кедров и сосен, мохнатые елки, что смотрятся в свое отражение с берегов Илима, Россохи, Тушамы и других речек в их чистейшей воде. Сами эти речки – прозрачные и холоднющие, с омутами и перекатами – пробивают дорогу к Ангаре между красно-бурых отскоков и желтых песков пляжей. Как говорил тогда наш бригадир Василий Васильевич, который в войну много где побывал в Европе: «Краше наших мест не знаю. Вот если бы еще вот этой мошки не было, гнуса и слепней…»
Сенокосные поля готовили еще первые переселенцы в годы начала освоения Сибири. Они основали здесь свои зимовья Погодаевых, Куклиных, Черемных, Кудриных… Можно перечислять почти все деревенские фамилии. В Сибири не было крепостничества, все вопросы решались на деревенской сходке. Покос – землю наделяли, ухаживай за ней, и это будут твои покосы. В собственность участки не давали, но крестьянин, как пользователь земли, мог ею сполна распоряжаться. Каждый луг имел своего хозяина и свое название. И в мои времена – что были у нас за луга! Ни кочек, ни ям, все чисто, трава, как нарисованная. Я ничего не говорил про эту красоту. Просто смотрел и, конечно, радовался. На то она нам и дана. И за этой красотой даже далеко не надо было ходить, она начиналась за окнами нашего дома. Кроме колхоза, в котором все трудились, у каждой семьи имелся свой огород, свое хозяйство. У нас, к примеру, не самых обеспеченных, была корова, свинья, 10–15 кур. Некоторые держали коз. В огородах росли самые разные дары природы. Больше всего выращивали картошку, засыпали осенью ее в хранилище и за зиму все съедали.
Мы, конечно же, не столько любовались природой, сколько с ней постоянно работали. И если ее правильно понимали, она нас щедро вознаграждала. Не только своими продовольственными дарами. Я уверен, она еще и подспудно учила добру, учила, по выражению Солженицына, «жить не по лжи». Не случайно, думаю, ни одни из моих сверстников не пошел по кривой дорожке. Это значит, что они оказывались прилежными учениками на той нашей детской учебе с глазу на глаз с нашими благодатными полями, лесами и реками.
Кроме прочего, природа приучает живущего в ней человека думать о простых и естественных закономерностях и дарит ему уверенность в себе и спокойствие, когда он ее понимает. Деревенские люди потому так и простодушны, что постоянно имеют дело с ней. И труд их потому и считается самым здоровым, что ему сопутствует гораздо больший, чем в искусственной городской среде – психологический, а не только экологический комфорт.
Говорят, все от Бога. Сегодня у нас все верующие. Но меня учили другому, и не трудно перестроиться. Только я точно знаю: есть святые вещи. Они внутри нас. И к ним надо прислушиваться.
Помню, мы с Володькой Анисимовым отправились к его отцу поздней осенью в Большую Елань – живописное место. Он там то ли охотился, то ли рыбачил. Но мы не мешали. Это был поход километров 20 в одну только сторону. Октябрь тогда уже наступил. Никаких слепней, мошки. Таежное царство, как оно есть без этих надоевших летающих гадов. И вот раннее утро. Стога. Я проснулся и вышел из зимовья. Скошенный луг. Тихая зеркальная речка. Оранжевое солнце встает. Довольно прохладно. И – хорошо. С чем это сравнить? Ни с чем. Не побоюсь показаться наивным и скажу, убежден: кто понимает, принимает такое как что-то свое, самое близкое, тот не может быть плохим человеком.
Как-то приезжали на сенокос к нас чужие, но тоже деревенские. Я попросил махорки у кого-то из этих мужиков и решил побаловаться – покурить. Сделал самокрутку и запыхал. Увидел дядя Вася, бригадир, отобрал и говорит: «Заходи». Я захожу, а они Ивану Петухову, взрослому парню, говорит: «Помни Мишу». Я не понял. А тот взял меня, вывел ан улицу и начал действительно круто разминать. Минут через 20 меня начало тошнить. И скоро стошнило. После чего дядя Вася и спрашивает: «Ну что, Мишка, курить будешь еще?. А мне свет не мил, и ни курить, ни смотреть ни на что не хочется. Говорю: «Не буду». Было мне 12 лет. Первая табачная проба на этом закончилась. Закурил я лет в 15, после смерти мамы. Но три года – спасибо дяде Васе – никакого желания. Ведь другой человек мог бы просто пройти, пальцем пригрозить, мол, матери скажу. Нет, всерьез постарался отучить совсем уже мелкого пацана от вредной привычки. Хотя бы на время. Похоже, он и других малолеток так отучал. Зачем это ему? Подвижник такой. Мимо не пройдет. обязательно поможет.
А как на сенокосе все спорилось! Одни делают копна, мы их на конях вывозим. Веревку затягиваем бастрючным узлом. Даже кони в том же ритме стремились не терять время. А тот, на котором я работал, был уж очень исполнительный – как только слышал букву «р», сразу останавливался. Однажды верхом я только сказал напарнику: «Аполинар, ты куда?». А конь встал как вкопанный, услышав букву «р». Причем дело было на полном скаку. Я кувырком вниз.
Была у нас работа и «по хозяйству» необычная. Как только заканчивалась учеба в школе, мы отправлялись на заработки на кирпичный завод, который располагался на краю Нижне-Илимска; перед красным Яром. Технология несложная. мешалась глиняная масса, проволокой резалась по образцу, и после кирпичи отправляли на закалку. Мы таскали дрова к большим печам. Иногда даже ночами дежурили. Здесь получали наши первые заработанные деньги. Несли их в дом. На кирпичном заводе я начал работать лет с двенадцати, как остальные наши ребята. Никто нас на эти работы не гонял. Наоборот, утром мы с радостью шли на завод.
Но какая здесь любовь к труду? Никакая. Деньги был нужны. Вообще труд – любой, включая самый творческий – вовсе, по-моему, не нуждается в нашей любви. Он жив сознанием его необходимости, а когда требуется – интересом докопаться до решения какой-то сложной задачи и достоинством мастера, который не может свое дело сделать плохо. Вот без этого было такое хитрое наказание – заставляли за некоторые провинности «толочь воду в ступе» – отсюда и пословица. Работа вроде «непыльная», а от нее, говорят, сходили с ума. А у нас было все в порядке: и в поле, и на заводе работали на себя. И там, и там – «по хозяйству».
Как свинья убежала из-под топора
Осенью у нас кололи свинью. Мне всегда было жалко, я не мог на это смотреть. За лето успевал привыкнуть к ней. Это же домашнее животное. Хотя понимал, смирялся: и мясо тоже нужно. Обычно убийство совершалось из ружья. А в этот год, о котором веду рассказ (почему-то он мне запомнился), пришел мужик и сказал, что ему не надо никакого ружья, у него другая убойная технология – в лоб топором и все. Ну дело-то хозяйское. За работу было обещано не то мясо, не то самогон. Деньгами рассчитываться за такую услугу у нас не принято. Но ничего не вышло у того мужика с его технологией. Скорее всего, топором ударил, ад неудачно, свинья сшибла его и рванула в лес – он же с деревней рядом. То есть от нас сбежало все наше мясное питание на зиму. Как беглянку возвращать? Искали два дня. Нету. Она же домашняя, может просто погибнуть, а кому она дохлая нужна. Вот и бегаем по лесу: две сестренки, и мама. Ночью перерыв. Наутро мама с соседями договорилась, и на следующий день они, как настоящие следопыты, обследовали обширную территорию. К вечеру нашли. За 7 километров от деревни, за малой речкой и хутором. Нашли-то нашли, но этого мало. Надо еще домой довести. Свинья не дается, поняла, что ей грозит. Вот мама и договаривается с другим мужиком, чтобы по старинке, вернее с помощью ружья, дело сделали. И он его сделал. Потом договорились, в колхозе взяли телегу, привезли свинью. Опалили. Зиму были с мясом.
Как Жучка ушла на охоту
В деревне не иметь собаку – плохой тон. Всегда у нас была собака. Не помню, чтобы не было. Но вот старая умерла, взяли щенка. Назвали Жучкой. Росла со мной. Когда была щенком, спали даже вместе. А подросла – определили в конуру. Домой ее не пускали, бегала по двору. Главное, чтобы в огород не забегала. Я не помню, чтобы в деревне у кого-то были злые собаки. Так, лают для порядка. Замков ни у кого тоже не имелось. Единственное – чтобы скотина не вошла в дом – дверь закрывали на палочку, которую вставляли в петлю. Я прибегал из школы, Жучка сразу кидалась ко мне, мы дурачились. У меня были две такие скотинки: Жучка и кот на пеке, с которым и прожил детство. (Детство закончилось, ни Жучек, ни кошек так больше и не было, не знаю почему).
Однажды прихожу из школы, сидит мама и рядом сосед-охотник. Промысел – его основная работа. Добычу такие охотники продавали райпотребсоюзу, ни что и жили. Таких было немало в деревне. У каждого свои угодья, охотничьи места. уходили далеко, надолго. И непременно с собаками. Это было целое хозяйство. добывали соболя, белку. Были случаи, и медведя валили. Мясо, шкуру привозили в деревню. И вот пришел такой к нам, и мама мне поясняет зачем: «Мишенька, сосед просит Жучку нашу». Оказывается, наша дворовая собака – это лайка. Очень хорошая собака, по словам соседа, и хочет ее взять, чтобы за сезон натаскать. За то обещал мяса привезти. Но как же я без Жучки? Я воспротивился. Сосед меня уговаривать: «Это же охотничья собака, она же должна охотиться, а у вас бестолково бегает по двору. Может, вам собака для охраны нужна? Так я найду». Но мне другая собака была не нужна. В это вечер спор ничем не кончился. Не соглашался я. А мама держала нейтралитет. Утром охотник поймал меня и снова уговаривает: «Миша, ты тоже ведь охотников будешь…». Я молчу. Прихожу из школы, охотник меня ждет, с мамой разговаривает: «Мне послезавтра в лес, давай все-таки решим. Не получится у меня с Жучкой, я привезу тебе ее назад. А пока дай хотя бы на этот сезон». Жалко мне было Жучку отдавать. Слезы на глаза наворачиваются. Но слова соседа засели в голове, что я тоже буду охотником. Значит, надо ладить с сословием будущих сотоварищей. Потому нельзя не согласиться. Да и Жучку приличному собачьему делу надо учить.
Но все же это был трагедия. Когда дрался, получал синяки и ссадины, не плакал. А тут, как обнял Жучку, разрыдался. Да и она как будто понимала. Прижалась ко мне, замерзла, слушая мои прощальные речи. Но – все! Отдал. Всю зиму охотника не было. Наконец вернулся, идет, жучка сзади. Я охотнику, отдай. Он – давай, мол, забирай. Я рад, зову Жучку. А она не идет. Все. Она уже другая – охотничья собака. И хозяину-охотнику, который не мне чета, останется верной. Вот так мы с ней расстались. Больше у меня собак не было.
Где Вовка? Нет Вовки…
Наш Илим – река коварная – с омутами и отмелями. Но имеет и достаточно глубокий для прохождения судов фарватер. У нашей деревни в том числе. Потому ее можно считать даже портовым поселением. Специальных причалов у нас не имелось, но некоторые катера и суда подходили к берегу, останавливались. А мы, мальцы-пацана и некоторые отчаянные девчонки, в жаркое лето из своей судоходной реки не вылезали. Купались помногу, подолгу, «до пупырышек», озноба. Сначала у берега, а как подросли, переплывали Илим.
(Чувство незабываемое, плывешь долго, над глубоким местом хочется скорее, а там течение, тебя относит, переворачиваешься на спину, отдыхаешь…)
Но взрослые ребята все то же делали, на наш взгляд, гораздо более изящно и красиво. Они брали лодку, уплывали на середину реки и там ныряли, резвились, плавали. На них смотрела вся деревня. Это был как бы водный театр. И нам хотелось так же. Договорились, взяли лодку и – на середину реки. Прыгаем, как взрослые. Нас шестеро. Выныриваем и смотрим: плывут к лодке почему-то пятеро. Где шестой? Нет Вовки, фамилия которого была, как у меня – Зарубин. Кричим, кричим. Нету. Запаниковали. Зовем взрослых. Те ныряют на глубину в районе нашей лодки, но никого не находят. Только ближе к вечеру обнаружили всплывшего Вовку, которого прибило к берегу под Красным Яром.
А потом те же взрослые нам объяснили, как и почему погиб Вова Зарубин. Нам захотелось устроить не хуже их свой водный праздник. И уверены были, что устроим. Чем мы хуже? И вроде бы все сделали, как они. Одно упустили: опытные постарше ребята прыгали с лодки навстречу течению, и когда выныривали, лодку уже относило от них на божеское расстояние. А мы прыгали с разных бортов кто по течению, а кто против без всякого разбора. И наш Володя, понятно, также, но ему не повезло больше всех: он оказался на поверхности как раз под дном лодки. Стукнулся головой, потерял сознание и захлебнулся. Первый раз в жизни я увидел тогда мертвого приятеля, который лежал на прибрежной полосе, и бегущую к неподвижному сыпу, расталкивающую нас всех и рыдающую Вовкину маму.
Безоглядная самоуверенность – детская она, не детская – всегда опасная. потому, уже взрослым, я много раз вспоминал этот случай.
Из ружья, как из пушки
Кто не видел зимним морозным и солнечным днем окруженную тайгой, сибирскую деревню, тот ничего не видел. Конечно, у нас хорошо, как нигде, и летом, и в любое время года, но зимой – как в сказке. Когда слышу что-нибудь про «сказочный лес», сразу вспоминаю свои зимы детства. Расхожий этот образ придумал, по-моему, кто-то из обитателей наших мест: уж больно он точен, по моим воспоминания.
Первый снег обычно случался где-то в начале ноября. И сразу все вокруг начинало светиться – и днем, и особенно в сумерках нашей неэлектрофицированной деревни. А когда выходил поутру из дома, ярко-белое покрывало уже голубело под ясным небом, искрилось разноцветными блестками в лучах рыжего солнца, встающего за лесом в снежных шапках. И начиналась пора наших зимних забав. (Были у всех, конечно, и дела: школа, помощь по хозяйству, но не о том сейчас речь). главные среди этих забав – лыжи и санки. На склоне, ведущем к нашей речке Илиму, – любимая трасса. Погодаевское ребячье население пропадало здесь всю зиму. Лыжи у нас были простенькие, крепления прямо на валенки, о лыжных ботинках только мечтали. Но я любил ходить на лыжах. Намечал какой-то ориентир и шел, стараясь проложить к нему прямую лыжню. Радовался, когда получалось, а потом гонял по ней. И после таких тренировок занимал призовые места на школьных соревнованиях.
Но была еще одна забава – тоже нами любимая, вообще популярная – и не только среди детей, но и молодых парней. Это – сооружение снежных крепостей, а потом снежные баталии: одни свои укрепления обороняют, другие штурмуют. С обеих сторон применяется лишь самое ходовое и безопасное подручное «оружие», снежки. Все бы ничего, только однажды нам с Виталькой Белобородовым в процессе фортификационного строительства захотелось, чтобы наша крепость побольше походила на те настоящие, о которых мы в книжках читали. И идею, в общем, осуществили. Но как и что из этого вышло, запомнили потом на всю жизнь.
Дом Витальки был рядом с нашим, потому мы часто вместе придумывали себе разные игры. И однажды у него на огороде сложили из снежных блоков довольно высокую и просторную крепость с башенками, бойницами, тайными входами-выходами, замысловатыми переходами. Сделали все грамотно. Могу это подтвердить теперь, как строитель. Дождались, когда снег затвердел, из него можно было нарезать как бы кирпичные блоки. И возводили свои снежные неприступные стены по технологии, близкой к общестроительной. По сути, это был мой первый опыт освоения будущей профессии. О чем, конечно, тогда не подозревал. В мечтах видел себя то летчиков, то поэтом, то тем и другим одновременно.
Хороша получилась крепость. Помаялись с ней, но вышла, что надо. Мы оглядели ее и загородились. И тут – не помню точно кому из нас, а может, обоим сразу, пришла блестящая идея. Вспомнили: в книжках, которые читали, рассказывалось, что после окончания строительства крепостей полагался церемониал их освящения выстрелом из пушки. В деревне с пушками было сложно, но за неимением их можно, решили, обойтись ружьем. У Витальки дома как раз висела на стене отцовская двустволка. Сойдет за пушку, выстрел из нее громкий. Спрашивать не то разрешения у Виталькиных родителей, рассудили, не стоит. Не поймут. А зарядить ружьем сами умеем. Видели не раз. Где патроны лежат – тоже не секрет.
Пришли с ружьем в крепость. И тут вдруг оказалось, что бойницы у нас смотрят как раз в сторону дома. Стрелять туда нельзя. Слишком громкий звук от ружья, стекла в окнах звуковая волна может выбить – это мы сообразили. Случаи такие от ружейных охотничьих салютов по разным поводам в деревне были. Значит, поняли, стрелять можно только с противоположной стороны нашей крепости. Правда, там бойниц нет – глухая стена. Но она же – снежная. Какие проблемы? Прямо дулом я протыкаю ее, мы замираем в положенной по ритуалу в таких торжественных случаях стойке «смирно», и я нажимаю на курок… Выстрел был таким громким – громче, чем из пушки, что на какие-то секунды я, по-моему, потерял сознание. А когда очнулся, увидел, что у меня в руках цел остался только ружейный приклад, а вся остальная часть двустволки превратилась в железные лохмотья. Физика – так обязательно все происходит, когда в ствол в момент выстрела попадает снег. Вот это мы не учли, когда осуществляли свою блестящую идею. Что нам и объяснили потом. А тогда мы стояли, оцепенев от неожиданности. Наконец до нас дошло, что ружья больше нет и нам за это попадет. Витальке особенно. Он – в слезы. Что делать? Попробовали даже с перепугу приладить остатки двустволки на место, где висела. Нет, больно уже плоха. Сняли, куда-то, спрятали. Предлагаю Витальке: скажи, что это я виноват, я все придумал. Но понимаю: отец у него сердитый, все равно его отлупит. Выручил нас старший брат Виталика. Выслушал «крепостную» историю, как-то подготовил родителей, и они оказались мудрее, чем мы думали: все поняли и больших разборок не затевали. Виталька примчался ко мне счастливый, я тоже был рад и за него, и за себя. А необыкновенную свою крепость мы с того дня так и оставили без боя. больше в нее даже не заглядывали. По весне она растаяла. Но так и осталась в памяти среди сказочных дней наших сибирских зим.
Как второй класс сорвал колхозную посевную
Посевная начиналась обычно после майских праздников. К этому сроку технику, как писали в газетах, «выводили на линейку готовности». Вот и тогда – это была весна 1954 года – отремонтированные, отлаженные, сияющие новой краской колхозные сеялки уже стояли рядком в полной полевой готовности.
А прямо в праздники вся деревенская молодежь проводила время на волейбольной площадке. Одни играли, другие смотрели, третьи – в тои числе мы, мальцы – занимались разными своими делами. А рядом с этой площадкой как раз и стояли сеялки и другая техника. Что вдруг мы их приметили и принялись рассматривать, не помню. Но уже в процессе этого осмотра кто-то из наших второклассников обратил особое внимание на такие блестящие цепи, которые крутят разные колесики в механизмах сеялок. Присмотревшись, этот любопытный кто-то сделал интересное, как ему показалось, открытие и решил им поделиться с нами со всеми: «Пацаны, это ж как гусеничные траки у танков! И след от них такой же». Тут же одну цепь немедленно, сняли, опробовали на земле: точно – след, как от маленького танка. Сразу всем захотелось иметь такую. Все стали снимать. Поиграть же хочется. В деревне игрушками нас не баловали. Вот мы и унесли эти игрушки по своим огородам. На время, конечно.
А наутро посевная. Наши механизаторы ничего не могут понять. Техника только что была в порядке, накануне опробовали, в поле сеялки ждут и – пожалуйста… Попытались на скорую руку их снова снарядить, но тут выяснилось, что запчастей, как всегда, не хватает. Кто навредил? Деревенское следствие скорое.
Утром проснулся от грозного мужского голоса:
– Нюра, Мишка дома?
Мать испуганно:
– Да спит он…
– Давай сюда вредителя.
Я отодвинул шторку, вижу разъяренного колхозного механика и рядом с ним несколько грустных вчерашних «подельников-одноклассников».
– Где цепи?
Встал, отдал свою. К обеду были собраны все. Но их же еще надо надеть, на это еще время. И посевную колхозу пришлось начинать на день позже запланированного. А наш второй класс поставили перед всей школой и долго клеймили позором за содеянное. Оправдание у нас было одно: мы же поиграть, а потом бы все вернули и сами поставили на место. Не знали же, что посевная завтра…
Школа наша на берегу Илима, день солнечный, теплый. Мы стоим понурые. Многим из нас еще вера крепко попало от родителей. Тем, которым не так крепко, тоже не больше радости. Никто даже не пытался произнести волшебную на все случаи отговорку: «больше не будем так делать». Здесь она неуместна, «преступление» слишком серьезно. Я, сегодняшний, вспомнив эту историю, подумал, а что, если бы это случилось лет на десять раньше? «Компетентные» органы наверняка завели бы дело о подрывной деятельности и среди взрослых села начали бы искать подстрекавших нас на это «вредительство».
А тогда мы стояли в школьном дворе и не знали, что заканчивается наша учеба в Погодаевской начальной школе. Что уже принято решение о ее закрытии.
На том эта история и закончилась. Вредителями нас больше не называли. сеять закончили вовремя.
Первый юбилей
Апрель 1956 года. Мне десять лет. Первый день рождения, который запомнился, Юбилей все-таки.
Апрель в Сибири – это еще зима. Снег еще не начинал таять. Еще морозы. Особенно по ночам. А в тот год были такие, что нынешние европейские большие холода – оттепель по сравнению с ними. Очень холодно было и в мой юбилейный день. Но гости пришли в полном составе. Никто мороза не испугался. Все это я очень хорошо запомнил, потому что мама мне устроила юбилей, лучше которого у меня, пожалуй, не было.