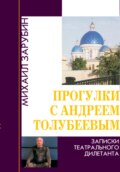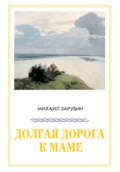Михаил Константинович Зарубин
Мы-Погодаевские
Немного истории
Скрипит намазано телега.
Должно быть, едет в ней
Дебил…
Нижнеилимск в начале века
По прозвищу Повостом был.
К чему дебил, к чему телега,
К чему Повост или Погост?
К тому, что жизнь для человека,
Понятно, непростой вопрос.
Конечно, если есть работа,
То нет на сердце маяты,
Трудись, знай, до седьмого пота
И будешь всем доволен ты.
Но вот придут зимы холодной
С тягучей скукой вечера.
Вот тут бы шуткой превосходной
Досуг украсить на «ура».
И даже не хлебнувши бражки,
Михайла Солод врал взахлеб,
Как он бежал из каталажки,
И не рысянкой, а в галоп.
Внимали жители, невольно
Не веря Солоду на грош,
Но развлекатель добровольный
Смешил людей и был хорош.
И было ладно людям вместе
При тусклом свете камелька
Выслушивать в два уха вести,
Которые издалека.
И те, что происходят рядом.
Вот слух идет, (а это так ли?)
Увидеть собственным бы взглядом
То диво-чудо, те спектакли!
Их политссыльные в Нардоме
На сцене изредка дают,
И вот еще: спектаклей кроме
В концертах пляшут и поют:
А на реке, напротив взвоза,
На льду расчистили каток,
Кататься, не страшась мороза,
Идут, лишь ветер на порог
Надвинет сумрак густо-синий,
Войдут, как конькобежцы, в роль.
Для них замысловатость линий —
След от коньков – о прошлом боль.
И керосиновые лампы
Каток готовы освещать…
Не помешал обычай нам бы
Такой, чтоб в избах не скучать.
«Политики» струею вдали
В таежный угол наш медвежий
Ростки культуры привнесли.
На новом месте
Вот клуб однажды переехал
В просторный светлый новый дом,
Не дом, а здание. Без смеха
Хотелось звать его дворцом.
В нем для кружковцев комнат много,
Вместительный и гулкий зал,
И я от сцены до порога
Шагов под сотню насчитал.
И все ж строитель – неумеха
Ошибок много допустил,
А я был зал не без успеха
Расширил, но укоротил.
И половину окон в зале
Убрал бы: для чего они?
Неуж строители не знали
Про ледяные наши дни?
А впрочем: что ж, работать надо.
Подъем в душе, огонь в груди,
И костюмерная богата,
И все спектакли впереди.
* * *
Откуда взялся он, Вовденко
Аркадий Федорович, а?
Такой был плоский, словно стенка,
Но ростом – словно скроен,
Воспитан: вежлив и умен,
Он мне понравился, не скрою,
А кто-то был в него влюблен.
За дело взялся он ретиво
И с появленьем майских трав
Поставил зрителям на диво
Комедию «Чудесный сплав».
Потом – «Сады цветут» и роли
Распределив в «Неравный бой»,
А вскоре – выезд на гастроли:
Узнать, что дадено судьбой.
Потом – концерт в ноябрьский вечер.
Когда блеснуть нам удалось.
И в многолюдном зале встречу
«Устроить» с тем, кто вождь, не гость.
Где грим, где клей, а где там букли?
Потерпим с вами мы пока:
И вот Иван Петрович Куклин
«Толкает речь с броневика».
И в зале шум аплодисментов,
Но нет, не шум, пожалуй, шквал!
Сыграть вождя на сто процентов!
А кто его гримировал?
…Концерты и агитбригады,
И новогодний маскарад —
И жители района рады,
И сам Воводенко тоже рад,
Но вот – беда, и хмель угарный
Его все глубже увлекал
И он к «методике» коварной
Во имя водки прибегал.
И был уволен. И уехал,
Оставив творческий заряд.
И мне пришлось не без успеха
Его сменить, чему был рад:
Ведь я уже не оформитель,
А режиссер, о чем мечтал,
И пусть я режиссер-любитель,
Посмотрим, что мне скажет зал.
Я «Барабанщину» поставил
Согласно замыслам своим
И в ней Салынского прославил,
Которого не знал Илим.
В спектакле роль вели толково
И Банщиков, и Дмитраков,
И в главной роли Ковалева…
И каждый из других каков!
Директор школы Агафонов
В спектаклях жизнь другую вел,
То инструктировал «шпионов»,
То как герой-любовник цвел.
Впервые музсопровожденье
Нам удалось в спектакль ввести
В ответ из зала – восхищенье!
Что остается? Да цвести.
Потом решили «Сто четыре
Страницы – ставить – про любовь»,
А это значит – глубже, шире
Насмелились готовить новь.
Пусть это – двадцать две картины.
Но «Сто четыре» – это да!
На ней не встретишь скучной мины.
А вот улыбки – так всегда…
И вновь концерты и гастроли
Агитбригад по деревням…
Распределить в «Стряпухе» роли
Уже нетрудно было нам.
Потом сыграли Макаенка
С «Леванихою» озорной,
И слушали, как в зале звонко
Смеялся наш народной честной.
«Стряпуха замуж» захотела.
«Судьба-индейка» вслед за ней…
Так славно продвигалось дело
В столь бурном темпе наших дней.
В игре любитель благородным
Был, право слово, молодец,
И звание «Театр народный»
Присвоили нам наконец.
РДК
Районный Дом культуры, значит.
Должны три буквы нам сказать,
Что это клуб, и не иначе
Мы будем буквы понимать.
А иногда еще короче:
ДКа и все. И надо знать,
Что в нем, признаться, между прочим,
Полезно время провожать.
Не раз придется в час досуга,
Как на торжественный парад,
Явиться в клуб и ради друга,
И ради той, которой рад.
И просто так, чтобы забыться
В той атмосфере клубных стен.
Когда и сердце бьется птицей,
И все заботы – муть и тлен.
Кадры
Вот – Куклин Николай Степаныч
В открытую, не по углам,
Любил заглядывать в стаканы,
Но не в ущерб своим делам.
Он многоактные спектакли
На сцене ставил, сам играл
«Смастрячив» бороду из пакли,
Ее искусно подстригал.
Он был тираном-режиссером
И консерватором насквозь,
Лишь иногда за жарким спором
Пойти мог с классикою врозь.
Островский, Сухово-Кобылин
И Гоголь, Горький, Лавренев
Любимы Куклиным так были,
Что у него «вскипала» кровь.
Радзинский позже и Софронов,
Шварц, Макаенок и Киршон
Мутили Куклина до стонов:
Так был он в классику влюблен.
В его характере, столь резком,
Таился взрыв, но не скандал,
То выгонял «актера» с треском,
То вновь его на сцену звал.
Степаныч нравился в моменты,
Когда Расплюева играл,
Тогда неслись аплодисменты,
Обвалом потрясая зал.
Конечно, он – природный комик,
За жизнь немало повидал,
Ролей не брал серьезных, кроме
Когда «Заслоновым» страдал.
И, женский покоритель бывший,
Рост – средний, строен и красив,
В часы досуга чай остывший
Пил, анекдотом закусив.
* * *
Директора менялись часто:
Зарплата, скажем, с гулькин нос,
Побудет годик-два – и баста,
Уходит чуть ли не в колхоз.
А Николай Степаныч Куклин
По кассе очень не тужил:
Он режиссурой был подкуплен,
Казалось, только ей и жил.
При нем Слободчикова Клава
С азартным блеском серых глаз
(Себе – почет и клубу слава!)
«Лучину» пела и не раз.
Не позабыть мне и артистов
Калошина и Москвина,
Любимова, что мог басисто
Сказать, что «Бедность не вина»?
Точнее, «Бедность – не порок»…
И мой почин довольно труден:
Нет, мне на всех не хватит строк —
А Погодаев, а Зарубин!
В размер фамилии не лезут,
Чуть поднажал – строку сломал,
И не пошлешь артистов к бесу:
Живой за ними капитал.
С фамилиями так прекрасно
Мой очерк мог бы расцвести,
Я постарался бы бесстрастно
Их целый список привести.
И в нем Перфильеву Фаину,
Белову, Гущину…Других…
Нет, не назвать и половину
Фамилий: очень много их!
Петр Ермаков баян трофейный
Из «завоеванных» краев привез.
И парень бессемейный
Девчатам так тревожил кровь!
Не только музыкой – собою,
Игрой, талантливой такой!
Он мог бы «закрутить» с любою,
Лишь стоит поманить рукой.
Но не смотрела на волооких
Красавиц наших Мань и Тань,
«Внедряя» из краев далеких
Сверхмодный танец «падэспань».
Играл в концертах и на танцах,
С агитбригадой весь район
Объехал. Жалко «иностранца»,
То бишь, баян-аккордеон.
И снова о кадрах
Как автор я не рад длиннотам.
Но в крупном очерке таком
Не разыграешь все по нотам,
И так жалею я о том.
Кого бы стоило еще-то
Прославить за его дела,
Чья бескорыстная работа
На сцене подвигом легла.
Москвин В. Г. – актер природный,
Во всех спектаклях ярким был.
Ему бы звание «Народный
Артист» я смело утвердил.
А Шестакова наградила
Природа голосом – ого-о!
Он пел и улыбался мило,
И звали Душечкой его.
Еще Чиндяеву Наташу
(Она Говориной была),
Такую говорунью нашу
Вписать бы в славные дела.
А вот и Михаил Мазаник,
Такой медлительный медведь,
Он вдохновенными глазами
Глядел на духовную медь.
Хоть вел кружок
Музинструментов.
Но все же обожал баян,
И лучше не было момента,
Когда он музыкой был «пьян».
Мазаник – труженик отменный.
Не только баянист – солист!
И точно, был актер бессменный,
Почти заслуженный артист!
Он делал все с такой любовью,
Со скрупулезностью такой,
Порою и во вред здоровью.
Забыв, коль надо, про покой.
Вот Житарев, плясун и комик,
На сцене, как «девятый вал».
То он смешил людей до колик,
То глубоко в грусть погружал.
И мастером был на все руки —
Электрик, плотник и актер,
Нет, никогда не знал он скуки,
Животрепещущ, как костер.
Был инженер – певец Перфильев,
К тому же вдумчивый актер,
Ему лишь не хватало крыльев,
Ох, как бы он их распростер!
И пела Нелли Белоброва
(Пора бы ей «Народной» стать!),
Ее был слушал, слушал снова,
И снова слушал и опять…
Не жизнь была у нас, Малина
В Нижнеилимском РДКа.
Нет-нет да вспомнится Марина
И легкая ее нога.
Она была миниатюрной,
Хореографию вела
И в нашей клубной жизни бурной
Такою скромницей слыла…
Писал тогда я в стенгазете,
Скорей всего, под Новый год,
В ее столбцах я в «лучшем свете»
Всем выдал порции острот;
«Марина – бог хореографии,
На сцене, словно мотылек,
В ее короткой биографии
Все начинается от ног…»
А не от печки, как считалось,
Как уверяли до сих пор,
И как все ошибались малость,
Но пусть все это – не в укор.
И мы ее, как дочь, любили,
От разных стрессов берегли,
И в этом все едины были:
Мы все же кое-что могли.
А вот и баянист Москвитин
Любитель модных сигарет.
Был в разных ипостасях виден.
То композитор, то поэт,
Еще – артист, солит и мастер
По загрустившим вдруг часам,
А то, бывало, скажет: Здрасте!
Где он, желаннейший «Агдам»?
О Погодаеве Алеше
В газете строки я писал,
Что парень, может, он хороший,
Но хвастунам всем фору дал.
«Алеша покорил Урал,
Урал к его ногам упал,
Так почему же перед ним
Непокоренным тек Илим?»
А вот и Саша, Ступин Саша,
И на его груди – баян,
Солист, артист и скромность наша.
Ему талант от Бога дан.
Послесловие
Еще бы многих в этот очерк
Я с удовольствием вписал.
Но поиспортился мой почерк,
Должно быть, очень я устал.
Прошу простить меня за это
Всех, про кого я «позабыл».
Другие явятся поэты,
Чтоб этот очерк полным был.
В Нижнеилимске – дно морское,
И, поплутав, наш РДКа
Возник с пропиской городскою
В Железногорске на века.
Паренек из деревни Зыряновой
Академику Михаилу Кузьмичу Янгелю – уроженуц деревни Зыряновой, что на Илиме
Зима. В берлогах спят медведи,
Под снегом пашни и трава.
Скрипят полозья: Минька едет
Вдоль Солянушки по дрова.
В Илим впадает Солянушка —
Речушка в десять трудных верст,
На устье – вся в снегу – избушка,
В ней трудно выпрямиться в рост.
За поворот ушла деревня,
Дымами вперяясь в облака.
Застыли царственно деревья
В роскошных шубах куржака.
Пни, наряжась в ушканьи шапки,
Их заломили набекрень.
На высохшей еловой лапке
Поет пичуга: «Дзень да дзень».
Дорога вьется между сосен,
Вползая глубже в стылый лес.
Мороз жесток, мороз несносен,
Под шабуришкой Миньке влез.
И Минька бил о ногу ногу,
В мохнатках пальцы яро жал,
Но все же спрыгнул на дорогу
И за санями побежал.
Согрелся возчик мало-мало,
На пялы плюхнулся пластом,
По ветке белка пробежала,
Мелькая дымчатым хвостом,
И затаилась, скрывшись в хвою,
Лишь с веток сыпал снежный пыл…
Жаль, взял отец ружье с собою,
А то бы белку сын добыл.
Бежит Каурка тихой рысью,
И Минька вертит головой.
Любуется небесной высью,
Таинственной и голубой.
Родная, милая сторонка,
Влюблен в тебя и стар и млад,
Здесь горе – горько, счастье – звонко,
Порою – рай, порою – ад.
Трудись, старайся, жить-то можно,
Пусть не щедра природа здесь.
В суровой стороне таежной
Для жизни все, что надо, есть.
В борьбе упорной, долгой, нудной,
В поту, в мозолях хлебороб
Берет хлеб с пашни многотрудной
Чуть не с пеленок и по гроб.
И рыба не дается даром,
И зверь в лесу – не тут как тут…
Везде-везде, в большом и малом —
Непереходящий тяжкий труд.
Но все же на родной сторонке
Бывают часто вечера,
Когда гармонь зальется звонко
И длятся пляски до утра.
Поют девчата в хороводе,
Пыль от черков и от сапог…
И вдруг при всем честном народе
Обнимет девку паренек…
И кто-то ахнет, кто-то ухнет,
И кто-то крикнет: стыд и срам!
Усталый месяц в небе тухнет,
Пора, пожалуй, по домам.
…А Минька едет, едет, едет
Вдоль Солянушки по дрова.
Он знает: есть на белом свете
Столица все страны – Москва.
Студентом Горной Академии
Стал Костя – старший Минькин брат,
Зовет к себе в Москву все время и…
И пишет: будет очень рад.
Зимою Минька в школу ходит.
Учитель книгу дал одну:
Жюль Верн – писатель чудный – вроде
Попасть стремится на луну.
Мечтает Минька, чуть тоскуя,
А в небе облачко плывет…
Машину сделать бы такую,
Такой небесный звездолет.
И до луны добраться можно.
Потом до звезд (и аж притих!).
Узнать, что там? Вполне возможно,
Жизнь существует и на них.
Какая жизнь? Какие люди?
На что похожи, как живут?
Что здесь, у нас-то, с ними будет,
Жить смогут или же помрут?
А вдруг у них там все толково:
Машины пашут, сеют, жнут.
Нажал на кнопку – и готово:
Еда любая тут как тут!
У них, быть может, климат южный
И совершенно нет зимы!
Дрова пилить, возить не нужно,
А мы в Сибири. Мерзнем мы.
А вдруг они и войн не знают,
Ни драк, ни ругани, ни слез?
Ну размечтался, замерзаю…
Какой отчаянный мороз!
Окоченелый, на дорогу
С саней он спрыгнул, побежал,
Разогреваясь понемногу,
Но лопнул ичиг. Вот скандал!
Торчит наружу стелька сена
Из лопнувшего передка,
А вдоль дороги по колено
Лежат нетронуто снега.
А если снег набьется в ичиг —
Нога отмерзнет в пять минут.
«Мохнатку, что ли, с рукавичек
Снять и на ногу натянуть?
Но без мохнатки мерзнут руки…
Домой вернуться? Ай-я-яй!
Что люди скажут? Мол, от скуки
Коня гоняет, шалопай!
Нет, нет! Обратно нет дороги:
Без дров домой никак нельзя!»
Бежит Каурка мохноногий,
Полозья в колее скользят.
А в ичиг проникает холод.
«Тпру – у!» – Минька лошади сказал.
Остановил Каурку. Повод
Ременный споро отвязал.
Перевязал потуже ичиг —
Исчезла щель – ноге тепло.
В кустах заметил Минька птичек,
И стало на душе светло.
Но как он резко, зимний воздух,
Вдохнешь поглубже – кашель враз,
«А там, на этих дальних звездах,
Такой же воздух, как у нас?
А вдруг у них такие зимы,
Что нам не снились на Земле?
Такие, что и на Илиме
Казаться будет: ты в тепле!
А может, там – нужда и голод,
И войны длинной чередой?»
Навстречу едет дядя Солод,
Рукой машет: – Минька, сто-ой!
Разъехаться нам, паря, надо…
Сворачивай коня в объезд.
Да ты, глядю я, как с парада!
А стельку, паря, конь не съест?
Сам улыбается лукаво,
И на усах сосульки льда.
Сворачивай сюда, направо…
Что лопнул ичиг – не беда!
Какой же ты сметливый, паря,
Уже и вырос в молодца.
Глядю, не тратишь время даром
И дело делашь до конца.
Смутился Минька и, краснея,
Чуть отвернулся: «Смех-то смех,
Что прошва лопнула, черт с нею,
Да нет бы спрятать ногу в снег?»
– Да чем, Василий Иннокентич,
Бежал я – ичиг подошел…
– А твой отец, Кузьма Лаврентич,
Ишшо с бельковья не пришел?
– Нет, не пришел.
– Ты че не в школе?
– Дровишки кончились почти,
Вот пропускаю поневоле
Уроки.
– Едем, ты прости:
Пока помочь тебе не в силе…
Вот рази доху? На, бери!
У Солода кобыла в мыле.
– Ну, трогай, леший задери!
Полозья тяжко заскрипели:
На санях дров – почти сажень.
По сторонам стояли ели,
Бросая на дорогу тень.
И Минька завернулся в доху,
На пялы сел. В дохе-то – рай!
Теперь ему совсем не плохо,
Хоть на Чукотку поезжай.
…Скрипят полозья все напевней,
У Миньки на душе светло:
Везет по улице деревни
Домой желанное тепло.
Михаил Зарубин
«Позови меня, тихая родина…»
Посвящаю дочери Анне
Начало. Санкт-Петербург – Иркутск
В последние годы во время поездок по городам. России, а особенно в заграничных деловых командировках, экскурсионных турах меня все чаще одолевает какое-то странно-тревожное чувство – очень похожее на обиду. Но на кого, за что? Потом догадался, на самого себя. Мне не дает покоя сознание, что полмира объехал и все езжу, а родную деревню не знаю, не помню, как будто не был там никогда.
А ведь был. В паспорте написано: родился в деревне Кеуль Иркутской области. И семь месяцев смотрел на руках матери из младенческих пеленок и на ангарскую многоводную даль – всю в хвойной оправе крутых берегов, и на бревенчатые избы в резных оконных наличниках, и в глаза отцу, и в лица ближней и дальней кеульской родни. А потом мать ушла от отца. И мы отправились в районный центр Нижне-Илимск, по сути – в никуда, чтобы начать жизнь с чистого листа. Скитались по съемным углам, мать бралась за любую работу. Окончательно обрели мы свой дом, когда перебрались в ближайшую (через речку Илим) от райцентра деревню Погодаеву. Там и прошло детство. Туда не раз и приезжал потом на побывку, в родные места. А Кеуль – что Кеуль? Как-то все не туда дороги. А ведь это и есть настоящая родина. Не шибко известное место, но для меня все равно самое знаменитое, самое главное, я здесь родился. Рядом сейчас строится Богучанская ГЭС, и деревне – узнал – грозит затопление, там уже нет никого, перевезли всех в другое место. Еще немного и увижу свой Кеуль вовсе.
Я никакой не мистик, но готов утверждать: с родными местами, как и с близкими людьми, у нас существует незримая, постоянная и нерушимая связь – какие бы расстояния нас не разделяли. Я уехал из Погодаевой в 14 лет: мать тяжело болела и договорилась со старшим сыном, что я поживу у него в городе Черемхово под Иркутском. Думал ли я, что ее болезнь может оказаться смертельной? Сейчас, уже пережив ее по возрасту, могу сказать честно никогда. Как это так, мама может умереть? В мыслях не было. Поэтому и сборы в дорогу были легкими, радостными. хотелось увидеть места, где ходят трамваи, автобусы. (Спасибо школе и моей учительнице Валентине Ивановне Куклиной – всю жизнь свою я вспоминаю о ней с благодарностью – поездку оформили на областной пионерский слет. Для нашего проблемного семейного бюджета это вышло очень кстати. Кроме того, была и психологическая поддержка, я как бы просто не на некоторое время уезжал по школьным делам).
Помню, как, собрав свои скромные вещи, подошел к маме, она взяла мои руки, прижала их к своим щекам, и ладони мои тут же стали мокрые. Не могу вспомнить наш разговор, придумывать не хочу, но полные слезу голубые мамины глаза, смотревшие на меня в последний раз, не забуду. Так и осталась в памяти: наша «зала», кровать у кухонной перегородки, на которой лежала мама, тонкие ее худые руки, высохшие от болезни, и я перед ней.
Быстро бежит время, позади слет, новые друзья. Середина короткого сибирского лета. Но еще не тянет в деревню, и даже о маме вспоминаю редко. Но однажды вдруг какая-то неведомая сила подняла меня с постели рано-рано. На часы не смотрел, примерно часов в пять. Никогда раньше со мной такого не было, обычно успевал только голову донести до подушки и спал, пока не разбудят. А тут ни в одном глазу. Вышел на крыльцо, уютный такой рассвет, синее-синее небо, солнце встает, ласковые лучи уже греют. Я подумал о маме, как она там, давно не виделись. Вокруг благодать, а у меня какая-то тревога. Не было, конечно, никаких мыслей о маминой смерти, их не могло быть, но что-то беспокоило – это отчетливо помню. Долго сидел на ступеньках крыльца. Потом пошел досыпать. А в конце дня пришла телеграмма, умерла мама. После, сестры, которые в это время были при маме, рассказывали, что она умерла в пять утра и все повторяла перед самой смертью: «Миша, Миша, как мой Миша…» Звала. Этот зов меня, выходит, и поднял. дошел за тысячу километров. По времени все совпадает.
Как дошел – когда-нибудь эту связь обязательно расшифрую. Я свято верю, что она есть, не может не быть. Как без нее? У меня же она была. Звал меня самый родной человек, роднее не бывает. Никогда после этого со мною подобного не происходило. Было ли в этом что-то сверхъестественное? Да вроде нет, все обычно, я бы даже сказал – обыденно. Но этот миг запомнился на всю жизнь.
Не знаю, как это бывает у других, но у меня детство закончилось в тот день. 18 июля 1960 года, как мама ушла, я остался один. И скоро понял, как страшно без мамы. Как страшно разговаривать с ней только мысленно.
Какой я ее помню? Мне повезло, я был последним у нее, «поскребышем», как говорили у нас в деревне. И всю свою нерастраченную любовь она отдала мне. Жаль, по-настоящему понял это много позже. Казалось – обычная жизнь, всегдашние мамины добрые глаза, ее радость от моих успехов. Не было у нас частых поцелуев, сюсюканья, красивых слов. Но я всегда знал, что маме дорог. Она берегла меня, защищала.
Однажды, еще до школы – лет шесть было, мне больше – играл с приятелем. И забрались мы с ним на колхозный скотный двор. Коровы на выпасе, и мы – несмышленыши развели там большой костер. Случился пожар. Хлев обогрел, разборки были большие, неприятности для родителей огромные. Приятеля мать были смертным боем, до того, что изувечила. Врачи не спасли, мальчишка умер.
А моя мама прижала меня к себе, все гладила и просила Господа о помощи. Просила Его дать мне, неразумному, ума и не отпускала меня. Ответ за все держала сама.
Она много работала, днем в колхозе, вечером допоздна дома. Короткий сон, снова день, и все сначала. У нее не было зла на эту жизнь, она радовалась добру и горевала, когда приходила беда. Работала в колхозе в полеводческой бригаде. начиналась та работа с весны, когда за сеялками взвивались вихры пыли. И трудиться надо было днем и ночью. Летом – трава – сорняк лезла быстрее посевов. И под палящим солнцем, под дождем, в три погибели согнувшись, надо было заниматься прополкой. А подходила осень – жатва вручную. Я знал эту работу, у меня да же свой серп был. Однажды им порезал нечаянно палец, и шрам до сих пор так и остался. Мама жала хлеб, вязала колосья в снопы. (Иногда и я помогал ей, чем был невероятно горд.). а потом их свозили в гумно и молотили – иной раз просто цепями. Адова работа. Но маме приходилось выполнять и две такие.
Когда сестра Капитолина, которая работала дояркой, вышла замуж, оказалось, что из колхоза к мужу отпустить ее не могут, замены нет, некому передать ее буренок. Председатель колхоза имел право не выдавать паспорт, а без него никуда не уедешь. Таковы были законы советского крепостного права на селе. Мать по начальникам обила все пороги, но Капитолину согласились отпустить с условием: «Возьмите коров, которые обслуживает ваша дочь, ухаживайте за ними, тогда пожалуйста…» И ради дочери она пошла на это – выполнять двойную работа. Ей тогда были почти пятьдесят лет. В этом вся наша мама.
Деревенские звали ее Нюрой, но однажды я услышал, что правильно ее звать Анна. Узнав ошеломляющую новость, влетел домой и закричал:
– Мама, мама, ты не Нюра, ты Анна…
Она рассмеялась, прижала мо голову к себе и сказала:
– Правильно – Анна. Но все с детства меня зовут Нюрой. Это одно и то же.
– Но Анна же красивей, – сказал я.
– Ну вот и зови меня Анна, раз красивей.
Но для меня она осталась – мамой. Иначе я не мог называть ее. Это имя для меня самое красивое и святое.
И вот не мог я услышать, когда она меня звала в последний свой час. Уверен, что и места, где мы появились на свет, – они словно близкие люди, словно родители. Потому у нас с ними те же отношения. И они зовут, когда им плохо, просят не забывать. Не я один, конечно, о том знаю. Многие давно приметили. Есть даже песня: «Позови меня, тихая родина, на закате дня позови…»
Ностальгия – довольно сильное чувство. Медики говорят, может даже стать болезнью. Буквально: это «форма реактивного состояния, обусловленная полной или частичной утратой связей с родными местами. Основными проявлением стадиях «нарушаются сон, аппетит, снижается масса тела, падает работоспособность, получают развитие сердчено-сосудистые заболевания». А лучшее лекарство – возвращение в родными места, свидания с ними. Вот что-то похожее случилось и со мной. А раньше ничего подобного не испытывал. Не до того было.
Я давно человек городской, но деревня всегда в памяти. Мне нравилась деревенская работа. Лет с десяти я уже ее участник. Любил сенокос. Нам, пацанам, поручали лошадей, жили в полусотне километров от Погодаевой – луга, дурманный настой высоких трав, речка, тайга, свобода… Та же, в общем, сибирская красота, что и в Кеуле, о котором, понятно, тогда и не вспоминал. Мне с первых уроков нравилось учиться, и в школу ходил с радостью, отметки получал только самые высокие. Писал стихи, хотел стать поэтом, на худой конец – летчиком. И вскоре получил признание, правда, в кругу сотоварищей, учащихся Иркутского строительного техникума. заслужил даже лауреатское звание. И вслед – назначение ответственным за художественную самодеятельность и ведущим наших студенческих концертов. Пользуясь должностным положением, время от времени объявлял со сцены: «Михаил Зарубин. Стихи». И читал свои новые произведения. Как потом выяснилось, не зря старался. Среди благодарных слушателей оказалась студентка Нина, которая через некоторое время стала Ниной Андреевной Зарубиной, моей на всю жизнь женой. А я получил диплом строителя. И сразу попал на одну из самых серьезных строек страны тех лет – Иркутского Академгородка. А потом и объединение «Кировский завод» в Ленинграде. После строил в городе на Неве жилые дома, кафе, рестораны, театры – все, что надо. И, видимо, неплохо, если присвоили звание «Заслуженный строитель России», «Русь Державная», признание четырьмя медалями и званиями – «Почетный строитель России», «Почетный архитектор России», «Строитель России 2006». Причем нынешний титул – «Строитель России» не просто профессиональный, им награждают за заслуги в государственном строительстве новой России.
Хотя какой я тут участник? В партии не вступаю, правда, в помощи им не отказываю. А делаю свое дело – строю здания самого разного назначения.
Попутно же в жизни случается много всякого неожиданного, загадочного, смешного и грустного. Меня грозили исключить из партии (коммунистической) и выбрали на съезд той же партии. Я беседовал с легендарным оппонентом Ельцина Лигачева («Борис, ты не прав!»). Читал симоновские стихи вместе с самим Константином Симоновым. По недосмотру охраны оказался в окружении Михаила Горбачева и вместе с ним кланялся саркофагу Ленина. Власти советских времен грозили мне волчьим билетом. Демократы первой волны посылали в Италию закупать передовое строительное оборудование – вовсе, как оказалось, далеко не передовое. А демократы второй волны командовали в английский Манчестер осваивать передовые технологии, но теперь вот выяснилось, что если мы не найдем способ ликвидировать нынешний искусственный дефицит земельных участков под строительство в нашем городе, никакие технологии нам не помогут. И это меня, сегодняшнего генерального директора известного в городе 47-го строительного треста, волнует больше всего. Пытаюсь достучаться до нынешнего чиновника с этой своей правотой, но результата пока нет.
Читаю «Ностальгию» Александра Городницкого: «О годах, что стали далеки (нынешние суетны и плохи) по ночам вздыхают старики – эмигранты смею поспорить с уважаемым мною поэтом: эпохи не вымирают. Прошлое живет в настоящем. А настоящее в будущем (говорят же: «Будущее начинается сегодня»). Само деление на эпохи – придуманная людьми условность. Смешно, конечно, жить в прошлом, только ему поклоняться, как это делают герои Городницкого, но и забывать о нем нельзя. О чем ради нашего блага не могла не позаботиться человеческая природа. Она мной и руководит, мне некогда «вздыхать по ночам», но мне интересно, кто, как, чем живет сегодня в деревеньке моего рождения, моего младенческого детства. И знание, память об этом не просто лекарство для души. Став строителем в большом городе, я постоянно вспоминал наш сибирский дом, ограду, весь в зелени двор. И меня с тех пор не покидает мечта строить в городе нечто созвучное тем воспоминаниям. Чтобы росли кварталы наших многоэтажек не вместо природы, а вместе с ней. Чтобы городской комфорт в обязательном порядке включал в себя и сельский – тот, какой помню это и будет мое прошлое в настоящем.
От Санкт-Петербурга до Кеуля, если по прямой, тысяч пять километров будет. Выбирая для себя время года, в оправе которого хотел бы увидеть родину, тысячу дум передумал. Осень – сибирское великолепие, огненные кусты, янтарные к жизни, первые цветы, первая зелень, ледоход на реке. Люблю зиму, такой красоты, как у нас зимой, не увидишь нигде. Но для поездки выбрал лето, когда природа полна жизни и сил. Среди полей, лесов зеленых, при полноводной Ангаре захотелось увидеть Кеуль.
Наконец решился. Благо жена и дочь Анна поддержали и отправились со мной. Самолет пролетел через всю страну, и вот долгожданный Иркутск, знакомые улицы, родные лица, Ангара. Увидев мост, когда ехал к родственникам, вспомнил свое мальчишеское стихотворение о нем.
И мост, словно кот выгнул спину,
Подставив ее под людской поток.
А в дальней дымке я вижу плотину,
Дающую людям ток.
Родственники удивлены, зачем мне эта поездка в Келью? Никто об этом прямо не говорит, но я читаю вопрос на лицах. Иркутск, впрочем, тоже не чужой мне город. Здесь прошла юность, родились две дочери Анна и Наташа. Мне дорого здесь все, и современные многоэтажные здания, и уютные в деревянных кружевах узорные деревенские дома, строения разных архитектурных стилей. Иркутску больше трех веков. Он постарше Санкт-Петербурга. История, судьба этих городов тесно связанных друг с другом. Если первый – это окно в Европу, то второй – можно сказать, дверь на Восток, в Китай, Японию и Корею.
На берегу Ангары – Иркутский Академгородок, мне выпало счастье участвовать в его строительстве и жить в этом удивительном уголке. Разве забуду я станцию искусственного климата – фитотрон Института физиологии и биохимии растений? В мое время эта станция была единственной в стране. Откроешь одну массивную дверь, и в лицо ударяет упругая волна горячего воздуха. Мощные люминесцентные лампы льют ослепительный свет на стеллажи с растениями. Ощущение такое, будто попал в заволжскую степь, когда над ней проносится обжигающий суховей, а в соседней камере холодно, тусклый свет, словно в серый осенний день, пушистые кристаллы инея белеют на листьях растений.
Так, переходя из помещений в помещение, путешествуешь по разным климатическим зонам страны, попадаешь в разные времена года. Здесь можно создать любую температуру воздуха и почвы, вести опыты при разной длительной дня, интенсивности и качестве света.
Сколько открытий сделано! Я до сих пор горжусь, что в строительстве станции и всего института принимал участие.
Это было первое для меня трудовое поприще. Спасибо Павлу Арнольдовичу – мужу сестры моей жены, который посодействовал, чтобы приняли прорабом. Работа оказалась и престижной, и интересной. Я забывал о времени, после работы уезжал в институт учиться. Вырастали новые корпуса Академгородка, по другую сторону улицы Лермонтова строились жилые дома, школы, детсады, торговый центр, дом культуры. Был он прекрасен – Академгородок. Вместе с ним росли мы, учились в институтах, рожали детей. В старой части Иркутска неповторимы архитектурные ансамбли Драмтеатра и Театра музыкальной комедии. А нарядные здания в мавританском стиле – краеведческий музей. На фризе каменные строки, которыми увековечены имена исследователей Сибири. Дальше элегантный деревенский домик семьи декабриста Трубецкого. И Ангара, которая не похожа ни на одну реку мира. Уже в самом свое истоке ширина ее 800 метров. Прорвав каменную гряду, она вырывается на простор. На языке аборигенов – эвенков и бурят – «ангай», «ангара» означают разинутый, открытый, зияющий. Или – расселина, ущелье. И как верно схвачено: Ангара в своем истоке, прорезав горы, стремительно несет свои воды по расселинам и ущельям. И они как открытая пасть, жадно пьющая воду Байкала.