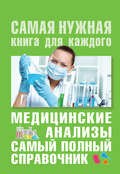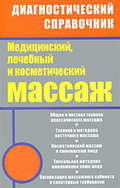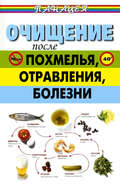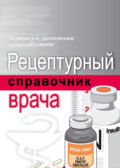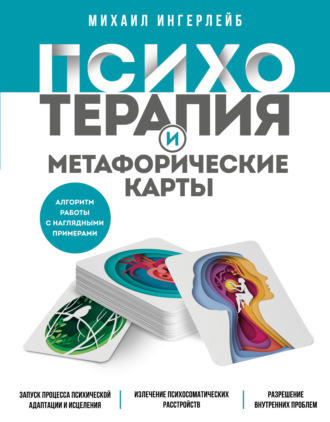
Михаил Ингерлейб
Психотерапия и метафорические карты
Например, карта № 75 (рис. 1) малой колоды OH; клиент мужчина, 29 лет, обратился с проблемой затянувшегося депрессивного состояния после разрыва с девушкой. «Я вижу, как один из персонажей сказал другому: “Нам с тобой не по пути” и ушел. И вот он идет, и даже со спины видно, что ему тяжело идти, а второй стоит, ошеломленный, и не знает, как ему жить дальше». Очевидность проекции собственных переживаний клиента на карту не нуждается в дальнейшем комментировании.
Смыслы, упоминаемые в таблице, это, несомненно, личностные смыслы. Попытка обсуждения проблемы смыслов в одном-двух абзацах книги с прикладным значением – абсолютно неблагодарное занятие. Уместным будет упомянуть высказывание А. Н. Леонтьева: «Проблема смысла… это последнее аналитическое понятие, венчающее общее учение о психике, так же как понятие личности венчает всю систему психологии», стоящее эпиграфом к книге Д. А. Леонтьева «Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности». И отослать читателя к этой книге.
Базовое определение из психологического словаря: «Смысл личностный – субъективно воспринимаемая повышенная значимость предмета, действия или события, оказавшихся в поле действия ведущего мотива» – скорее определяет широту проблемы, чем исчерпывает ее. Осознанность личностных смыслов может быть различна, и обсуждение их – одна из задач, стоящих перед психологом в консультативном и терапевтическом процессе.
Когда психика не может овладеть внутренним возбуждением, тогда происходит проекция этого возбуждения из сферы подсознательного с формированием невроза
Нарратив (от англ, narrative – «история, повествование»), или нарративный процесс, или нарративная терапия – целое большое направление практической психологии и консультирования, использующего нарратив как метафору для практической работы (White, Epston, 1990). Основные принципы этого направления опираются на идею, что представления человека о том, чем/кем он является (представления о собственной идентичности), конструируются в форме историй (нарративов), содержащих описание и объяснение смыслов, ценностей, намерений, мотивов (Кутковая, 2014). Что интересно, но не общеизвестно: нарративная терапия является одной из практических реализаций конструктивисткой парадигмы, другой, не менее популярной, реализацией которой является столь широко известное НЛП.
Ассоциация здесь понимается абсолютно традиционно – как спонтанная связь, возникающая между двумя или более психическими образованиями (ощущениями, двигательными актами, восприятиями, идеями, воспоминаниями и т. п.) в процессе психической деятельности индивида.

Рис. 1
Метафора. Если «пехота – царица полей», то метафора – царица практической психологии. «Все человеческое поведение может быть так или иначе представлено на языке аналогий или метафор разного уровня абстрагирования» (Маданес, 1999).
Метафора в психологическом контексте термина предстает как любое языковое выражение с переносным смыслом, которое позволяет перенести реальность одного понятия на другое, более яркое (Липская, 2009). Метафора действует не напрямую, но метафорически выраженный опыт клиент реально проживает и принимает, он становится его собственным опытом.
В психологической работе метафора имеет несколько важных функций (Трунов, 1997):
✓ экспрессивная функция – клиент с помощью метафоры выражает трудный для вербализации опыт (настроение, чувства, впечатления и т. д.);
✓ диагностическая функция – выбираемые клиентом образы детерминированы его сознательными и бессознательными мотивами. Именно эта функция широко используется в проективных методах вообще и в МАК в частности;
✓ диссоциирующая функция – состоит в «овеществлении» проблемы и ее экстериоризации, то есть «перемещении» проблемы из «внутреннего поля» пациента во «внешнее». Это, во-первых, дает возможность клиенту увидеть со стороны свою проблему и самому найти пути ее решения, а во-вторых, позволяет психологу осуществлять различные терапевтические интервенции (например, техники символдрамы, гештальт-терапии, НЛП, эпистемологической метафоры);
✓ поясняющая функция состоит в том, что благодаря символическому замещению абстрактных понятий и приданию им «осязательной» формы облегчается восприятие и усвоение различных психологических феноменов.
При этом «за наличием многочисленных школ в психологии стоит гораздо меньшее число базовых метафор, имеющих, как правило, характер визуального образа или образа действия и задающих тот смысловой корень, из которого произрастают психологические теории» (Петренко, 2013). Объективный взгляд дает нам возможность увидеть, как во многих направлениях с течением времени базовая терапевтическая метафора от стадии «интерпретации симптома» сначала трансформируется в «объяснительную модель», затем в «прогностическую модель», а потом начинает довлеть над последователями метода и приобретать характер «научной аксиомы», в итоге превращаясь в догму.
Инсайт (от англ, insight — «проницательность», «проникновение в суть», «понимание», «озарение», «внезапная догадка», «прозрение») – весьма популярный и очень многозначный термин из практической психологии и психотерапии. Суть обозначаемого им явления состоит в неожиданном и очень ярком (в контексте внутреннего переживания) прорыве (озарении) к пониманию насущной проблемы путем постижения ситуации в целом, а не в результате анализа или обдумывания. Термин введен в обращение в начале XX века американским психологом немецкого происхождения Вольфгангом Келером.
Кроме того, к работе с МАК в полной мере применим сформулированный Ф. Перлзом принцип соотношения фигуры и фона: наиболее значимые детали занимают центральное место в сознании, образуют фигуру, менее важная информация отступает на задний план и образует фон.
Наиболее частым аспектом работы, реализуемым с помощью МАК, является интроспекция (от лат. introspecto — «смотрю внутрь») – процесс знакомства со своей сущностью, собственным психическим устройством. Этот процесс знаменует собой начало терапии в любой психотерапевтической парадигме.
Столь значительный арсенал взаимодействия с актуальным содержанием психики клиента является основанием того, что метафорические ассоциативные карты оказываются универсальным инструментом, широко используемым специалистами различных направлений психологии в практической деятельности (Дмитриева, Буравцова, 2015; Кац, Мухаматулина, 2013; Киршке, 2010; Морозовская, 2013).
В зависимости от профессиональной позиции психолога МАК воспринимается и как психодиагностический инструмент, и как инструмент воздействия на клиента, и как способ взаимодействия психолога с клиентом (Федосина, 2016). С методологической точки зрения МАК рассматривают и как проективную методику, и как вариант арт-терапии, сказкотерапии (Кузьмин, 2015), мифологического осмысления реальности (Казанцева, 2017) и т. д.
Например, Е. Морозовская утверждает, что «методологически проективные карты относятся к экспрессивной терапии как подклассу креативной терапии, в свою очередь являющейся классом арт-терапии» (Морозовская, 2014).
Но у автора данной книги другое, более клиническое, понимание слово «терапия» относительно человеческой психики. Для меня «терапия» это в первую очередь избавление клиента от страдания, а в случае психотерапии – избавление от страдания душевного. Отношение же к психотерапии, которое можно встретить среди поклонников глубинной психологии, как к образу жизни и способу непрерывного личностного совершенствования мне кажется несколько избыточным, ведь в этом случае психотерапевт невольно оказывается в роли «учителя жизни», а это, собственно, несколько иная позиция и несколько иная ответственность. Отсюда и личное предпочтение краткосрочных методов терапии, и взгляд на ожидаемые результаты терапии (избавление от страдания или разрешение проблемы), и критерии завершенности терапии («принцип двух А»: достижении клиентом успешной Адаптивности в условиях Автономности от терапевта).
И с этих позиций использование метафорических ассоциативных карт не выглядит целостным методом, а приобретает значение, скорее, технического приема или инструмента.
Ни один сценарий не обеспечит вам возможность решить сколько-нибудь развернутый запрос клиента только одними лишь картами.
Вы кто? Гештальт-терапевт, символдраматист, глубинный аналитик?
Ваши основные терапевтические методы – вот способ решения клиентского запроса! А карты всего лишь облегчат вам вхождение в этот процесс, помогут с установлением доверия, в какой-то мере ускорят аналитический процесс.
Для меня техники использования метафорических ассоциативных карт не являются самостоятельным методом, а представляют собой инструмент, который может повысить эффективность работы в контексте любого метода, который предпочитает психолог или психотерапевт
Очевидно, что стратегической целью практически любой терапевтической работы является подбор адекватной для клиента интерпретации его симптомов специфическими для данного метода инструментами. Для многих терапевтов критерием качества такой работы выступает достижение клиентом инсайта. Да, работа с метафорическими картами сама по себе может явиться непосредственной причиной инсайта. И все, результат достигнут?
Нет.
Получение инсайта вовсе не значит, что достигнута цель психологической работы. Инсайт – не конец терапии, инсайт – только этап. Полученное в результате инсайта (катарсиса, телесного сдвига и т. д. – здесь может быть длинный синонимичный ряд) осознание проблемы еще необходимо перенести в область деятельности клиента, повседневности, адаптировать клиента к новой жизни в соответствии с вновь открывшимися гранями реальности и с новым уровнем его жизненных ресурсов. И такую последовательную терапию возможно спланировать и реализовать только в русле последовательной стратегии методологически разработанного терапевтического процесса. Карты не заменят стратегии ни сами по себе, ни как самостоятельный метод!
Не пытайтесь инструментом Заменить метод – и вас не постигнет разочарование
Мне кажется, что избыточная вера в «собственную силу карт» проистекает из нерационального и непрофессионального переноса на все виды карт мистической и эзотерической символики Таро и других гадательных практик, а также из-за присутствия среди «карточных психологов» значимого количества разнообразных астрологов, тарологов и бывших магов, которые переквалифицировались в «практических психологов» из-за причуд российского законодательства и налогообложения.
С другой стороны, упомянутое выше разнообразие взглядов показывает, что достоинства МАК как универсального психологического инструментария активно и эклектично осваиваются представителями практически любых направлений психолого-педагогического сопровождения, консультирования и психотерапии.
И сегодня по факту МАК является методикой, применяемой для решения широчайшего круга проблем: от подбора кадров и профессионального коучинга до разрешения тяжелых жизненных ситуаций, анализа семейных отношений и работы с расстройствами аутистического спектра.
По мнению большинства специалистов, метафорические ассоциативные карты по своей методической сути, несомненно, относятся к проективным методикам (Акимова, 2005), то есть опираются на исследование продуктов фантазии (воображения) и таким путем дают возможность заглянуть во внутренний мир человека, вскрыть индивидуальные особенности личности, ее структурных элементов – ценностей, установок, ожиданий.
Психологу и психотерапевту надо не «толковать расклад», ища смыслы в случайном порядке карт, а необходимо поощрять клиента к рассказу, творчеству, углубленному прочувствованию и описанию собственных эмоций, переживаний и открытий
Научный приоритет в использовании названия «проективные методики» принадлежит Л. Франку, который объединил этим термином несколько методик исследования и описания личности, весьма отличающихся друг от друга, но имеющих общие фундаментальные черты:
✓ неструктурированность описания результатов, подразумевающая бесконечное разнообразие возможных результатов;
✓ неясные, обобщенные, размытые стимулы, которые оказываются «экраном», на который испытуемый «проецирует» свои проблемы, личностные особенности, состояния;
✓ выявление у личности скрытых, неосознаваемых, вытесненных качеств;
✓ стремление к интегральному, глобальному описанию личности во всем многообразии ее проявлений.
Однако при этом «проективные методики» как инструмент психологической диагностики много десятилетий продолжают оставаться под огнем обоснованной критики. Если кратко, претензии сводятся к недостаточной объективности полученных описаний, трудности их стандартизации и проверяемой квалиметрии (психометрии), излишней индивидуализации, зависимости от индивидуального опыта исследователя, трудной (или вообще невозможной) валидизации, произвольности толкований (Щербатых, Ермоленко, 2016).
Но эти недостатки превращаются в достоинства, когда мы начинаем говорить об индивидуализированной терапии (коррекции), учитывающей сиюминутные изменения психического состояния индивида и его душевных процессов.
Особенность и преимущество проективных методов состоит в том, что процесс взаимодействия клиента со стимульным материалом является весьма неочевидной процедурой, без ясных «желательных» или «нежелательных» ответов. Потому как клиент не может «угадать» способы интерпретации сделанных им выборов и их связь с теми или иными проявлениями личности, он не прибегает к маскировке, искажению, защитным реакциям.
Сам процесс обследования обычно вызывает любопытство со стороны испытуемого, он легко и с интересом вовлекается в этот процесс, редко проявляет негативизм, быстро идет на контакт. Именно поэтому в повседневной практике появляется тенденция рассматривать проективные методики как терапевтический и консультативный инструментарий, облегчающий установление доверительного диалога с клиентом, а диагностическая ценность отступает на второй план. При таком подходе ценность диагностических данных напрямую зависит от умений психолога, а полученные диагностические характеристики оказываются приятным, но не самым важным дополнением.
Именно отсюда проистекает популярность проективных методик – от «Пятен Роршаха», интерпретация которых требует серьезной подготовки клиента и длительного обучения психолога, через тест Сонди, ТАТ и «рисуночные тесты» («Рисунок дома», «Рисунок человека») к простейшим картинкам в тесте определения готовности к школьному обучению.
В линейке проективных методик, где на одном полюсе находятся «Пятна Роршаха» с их абсолютной абстрактностью, а на другом примитивные по сюжету рисунки из «Теста готовности к школе», которые любой взрослый человек истолкует абсолютно однозначно, метафорические ассоциативные карты занимают позицию золотой середины[9]
Как стимульный материал МАК обычно несут вполне узнаваемое изображение, но степень обобщения и детализации такова, что даже один и тот же испытуемый в разное время видит на них различные детали и по-разному трактует. Я говорю сейчас в первую очередь о картах-первопроходцах, с которых начиналось это направление, – о колодах, появившихся в результате сотрудничества Эли Рамана и Моритца Эгетмейера. Каждая новая затем появившаяся колода в соответствии с авторской концепцией смещалась к тому или иному полюсу, но общая тенденция все же такова.
Так, к примеру, колода ECCO, по сути, представляет собой бессюжетные абстрактные цветовые коллажи, предельно свободные для толкования. И напротив, колода BOSCH представляет собой четкие фрагменты картин Иеронима Босха, при этом насыщенные мелкими многозначными деталями.
Описывать историю появления и развития метафорических ассоциативных карт как отдельного вида психологического инструментария пока нет смысла. Несмотря на то что история МАК еще очень коротка (1975 год – первая колода Эли Рамана, 1982-й – начало сотрудничества Эли Рамана и Моритца Эгетмейера, 1985-й – первая публичная презентация), уже кипят битвы за приоритеты – и счастье, что мы еще можем точно сказать, кто создал самую первую колоду (OH). Несомненно, в ближайшие годы появятся интересные исследования, которые представят заинтересованным читателям многообразные версии создания МАК.
Но вот о чем хочу сказать обязательно – так это об «открытости» метафорических ассоциативных карт и стремлении отдельных наставников сделать их «цеховой принадлежностью», недоступной для непосвященных. В этой ситуации есть три основных вектора:
✓ экономические интересы обучающих наставников;
✓ принципиальный запрет для людей, не имеющих психологической или медицинской подготовки, на ведение консультативной или психотерапевтической работы;
✓ вполне естественное желание нормальных людей самостоятельно использовать карты для саморазвития, стимуляции творческого воображения, арт-деятельности, игр с детьми.
Тенденция отдельных представителей МАК-тусовки монополизировать и зарегулировать право работы с МАК как с общедоступным инструментом имеет в основе экономические интересы и в своей логике требует провозглашения «МАК-психологии» как отдельного направления. Восприятие же МАК как общеупотребимого инструмента вступает в противоречие с «цеховой монополизацией».
Тенденция к зарегулированию вызывает настороженность не у меня одного[10] и, надеюсь, она минует как «детская болезнь» развития. Экономические интересы обучающих центров и тренеров останутся их собственными интересами, психотерапией и психологическим консультированием будут заниматься только профессионально компетентные специалисты с психологической и/или медицинской подготовкой, а метафорические карты для самостоятельного использования заинтересованными людьми будут по-прежнему доступны. И, кстати, хочу напомнить, что Моритц Эгетмейер в инструкциях к своим колодам нигде не упоминает о присутствии психолога или любого другого сертифицированного специалиста.
Что же касается закономерно возникшей дискуссии вокруг «сертификации и лицензирования», то, по моему скромному мнению, здесь надо принимать очень осторожные решения. Психологической деятельностью должны заниматься люди с психологическим образованием – это очевидно. Диплом государственного образца является достаточным основанием. Если с дипломами что-то не так, пусть государство борется с коррупцией, некачественным образованием и продажей дипломов. Это функционал государства. Саморегулирующиеся общественные объединения могут иметь какое-то влияние на профессиональную деятельность специалистов, но не более чем рекомендательное. Любые «цеховые» объединения – в первую очередь инструменты конкурентной борьбы и извлечения дохода. Однако, если вспомнить историю, ремесленные цеха способствовали в основном застою в области технического прогресса и появления новых товаров и услуг. Да и нынешняя ситуация уже блеснула эпизодом, когда несколько человек объявили себя «комитетом по этике» психологического сообщества и пытались «поставить на место» уважаемого профессора, подготовившего на своей кафедре многие сотни специалистов.
Не будем также забывать о том, что одна из «антипсихиатрических» организаций, борющихся «за права пациентов», является исполнительным органом секты сайентологов.
Но вернемся к основной нашей теме…
Метафорические ассоциативные карты – надежный помощник для каждого специалиста, который работает с людьми, так как позволяют наладить коммуникацию, создать атмосферу доверия, интереса к самопознанию и саморазвитию, а также закладывают «канву» желаемого контекста общения с клиентом или группой.
Метафорические ассоциативные карты как обыденный рабочий инструментарий успешно используются на этапе прояснения запроса клиента и на стадии непосредственной работы с терапевтическим запросом.
МАК могут являться основным консультативным методом, а могут создавать разгрузочные паузы или переключения (когда терапевтический диалог заходит в тупик или клиент чувствует утомление), помогают разорвать бессмысленную дискуссию, найти новые «входы» в состояние клиента. В символдраматическом процессе карта может оказаться визуальной опорой упражнения, в гештальте поможет уточнить восприятие собственных эмоций, разложить сложную эмоциональную реакцию на составляющие. При этом спектр применения невероятно велик – от эмоционально отстраненного профессионального коучинга до развития эмоций и интимных тренингов «женского начала».
В отзывах некоторых моих читателей прозвучало желание узнать о «противопоказаниях и негативных последствиях МАК». МАК – не таблетка, это инструмент. Какие противопоказания у ножа или молотка, какие негативные последствия? С другой стороны, никакая «foolproof» невозможна, если не пользоваться здравым смыслом.
Из всего сказанного выше может сложиться ошибочное впечатление, что свои достоинства метафорические ассоциативные карты демонстрируют преимущественно в индивидуальной работе. Вовсе нет. Достоинства МАК в равной степени проявляются и в индивидуальной, и в групповой работе. В связи с тем, что работа в группе заслуживает отдельного обсуждения, мы подробно рассмотрим ее в одном из следующих разделов.