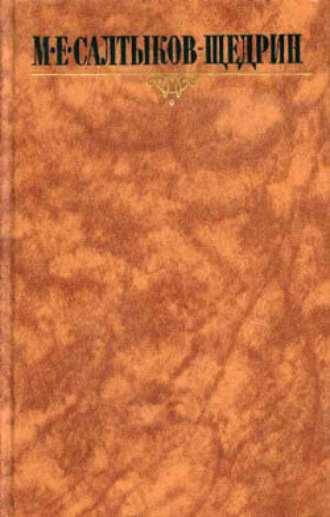
Михаил Салтыков-Щедрин
Убежище Монрепо
Не скрою, что и на меня перечисление сейчас приведенного обеденного меню подействовало болезненно, но так как при этом, очевидно, не без преднамеренности, проводилась связь между кушаньями и представлением о политической роли буржуазии, то обстоятельство это невольно налагало на меня известную осторожность.
– Со своей стороны, я нахожу, что обед был хотя и простой, но сытный, – сказал я, – а это, по моему мнению, главное. Единственный серьезный недостаток, в котором можно упрекнуть перечисленное вами меню, – это обилие супов, сообщающее трапезе однообразие и даже некоторую унылость. Но недостаток этот вовсе не присущ буржуазии, а зависит преимущественно от того, что Колупаев живет в захолустье, где не имеется в виду образцов…
– Но вы… вы сами? ведь вы в том же захолустье живете, а между тем…
– Я… что же я? Не забудьте, Милий Васильич, что я получил воспитание в высшем учебном заведении. Поэтому я, конечно, понимаю, что суп обязателен только в единственном числе и что затем существуют еще соусы, жаркие, пирожные и т. д. Но можно надеяться, что в недальнем будущем все эти представления будут не чужды и буржуазии. Я даже думаю, что и ныне, по мере приближения к центрам цивилизации, буржуазия ведет себя несколько иначе, нежели Колупаев. Так что, например, Поляков, Кокорев, Губонин – ну, я готов держать пари, что Поляков сморкается не в горсть, а в платок, и притом не в клетчатый бумажный, а в настоящий батистовый, быть может, даже вспрыснутый духами!
– Может быть… может быть-с! – сказал он задумчиво, но потом с живостью продолжал: – Нет! далеко кулику до Петрова дня, купчине до дворянина! Дворянин и маленькую рыбку подаст, так сердце не нарадуется, а купчина тридцатипудовую белугу на стол выволочет – смотреть омерзительно! Да-с, обидели! обидели в ту пору господ дворян!
Увы! при этом воспоминании я чуть-чуть не выдал себя. Есть у меня зияющая рана, прикосновение к которой всегда находит меня чувствительным и отзывчивым. Эта рана – воспоминание о дворянской обиде.
– Ах, как обидели! – воскликнул я, простирая руки… Но, взглянув на него, опомнился: по всему его лицу бродила какая-то сомнительная улыбка.
– То есть, лучше сказать, не обидели, – продолжал я уже спокойнее, – а каждому воздали должное. Прежде у нас была одна опора – дворяне, нынче две опоры – дворяне и буржуа. Стало быть, мы не потеряли, а приобрели.
– А про мужичка-то и позабыли?
– И мужичок – тоже опора, – согласился я.
– Нет-с, не «тоже опора», а самая настоящая опора – вот как-с! потому что мужичка в какую сторону хочешь, туда и поверни.
– И с этим согласен.
– По секрету скажу вам: хоть это и не входит в круг моих обязанностей, но по убеждениям моим я демократ! А вы?
– Что касается до меня, то я никогда об этом не думал. Вообще я живу не думаючи – так по нынешнему времени удобнее. Но ежели начальству угодно…
– Начальству! но разве начальство где-нибудь когда-нибудь сознавало свои истинные пользы?!
Это было уже слишком. Я почувствовал, что еще минута – и мы вступим на такую покатость, с которой легко можно спуститься в самую преисподнюю. Поэтому я разом пресек недостойный разговор, с силой воскликнув:
– Нет! с этим я никогда не соглашусь! Слышите, Грацианов! никогда! никогда!
Я помню, после этого разговора я целый вечер был беспокоен и все испытывал себя, не проврался ли я в чем-нибудь. И хотя совесть моя оказалась совсем чистой, но все-таки я долго ночью ворочался с боку на бок, прежде нежели сон смежил мои очи.
Но, увы! чем чаще мы сходились, тем скабрезнее и скабрезнее делались наши собеседования. Ни одного краеугольного камня не оставил он без исследования и обо всех отозвался с одинаковым ехидством. О браке, согласно с определением присяжного поверенного Пржевальского, выразился, что это могила любви; о собственности сказал, что область ее «в настоящее время» слишком сужена, что надо расширить ее пределы, допустив приток свежих элементов, хотя бы, например, казнокрадства, причем указывал на купца Разуваева, который поставкой гнилых сухарей приобрел себе блаженство, и т. д. О религии пробормотал что-то такое, от чего у меня уши разом завяли, а о начальстве…
Хотя мое положение во время этих разговоров было очень выгодное, потому что мне приходилось только защищать, но, наконец, мне так наскучило постоянно выслушивать это бюрократическое сквернословие, что я решился в свою очередь испытать его.
– Скажите, пожалуйста, Милий Васильич, – обратился я к нему, – отчего же вы в речи, обращенной к урядникам, утверждали совершенно противное?
– Странный вопрос! – ответил он мне, нимало не смущаясь, – но разве я имею право быть откровенным с урядниками? Я откровенен с начальством – потому что оно поймет меня; я откровенен с вами – потому что вы благородный человек… Но с урядниками… Извините меня, я даже удивляюсь вашему вопросу…
– Хорошо-с. А помните, когда я исповедывался перед вами при батюшке?..
– И тогда существовали те же самые причины. «При батюшке»! Но что такое батюшка?
– Извольте, согласен и с этим. Но надеюсь, что теперь вы убедились, что я совсем не разделяю тех воззрений, которые, по-видимому, исповедуете вы?
– Да-с, убедился-с… хотя и с болью в сердце, но… убедился-с!
– Ах, Милий Васильич! как хотите, голубчик, а вы для меня сфинкс!
– К сожалению, я совсем не сфинкс, а только становой пристав! – отвечал он печально, как бы подразумевая при этом: «Будь я сфинкс, давно бы ты узнал, как Кузькину мать зовут!»
– Но заклинаю вас именем всего священного! Ответьте мне откровенно: врете вы или нет? – воскликнул я, почти не помня себя от страха.
– Вы меня оскорбляете, наконец! – ответил он, взвиваясь во всю длину своего роста, – хоть я и не что иное, как становой пристав, но скажу вам от души: для благородного человека это даже больно… да, очень больно… «Врете вы или нет»?.. Ах!
Несколько дней он как будто будировал и не ходил ко мне. В это время из кухни начали долетать до меня звуки гармоники, и я, не без удивления, узнал, что они извлекаются каким-то вольнопрактикующим незнакомцем. Увы! Этот загадочный для меня человек настолько коротко сошелся с моей прислугой, что не только ел и пил, но даже, по временам, ночевал у меня на кухне… И я ничего не знал об этом! Разумеется, это меня встревожило, и я несказанно обрадовался, когда Грацианов, после недельной разлуки, опять в обеденный час явился в моей столовой.
– Слушайте! – обратился я к нему, – у меня в кухне поселился какой-то незнакомец… скажите, могу ли я, по крайней мере, запретить ему играть на гармонике? Я не выношу этого инструмента.
– Кто же это?! – удивился он.
– Вероятно, вы очень хорошо знаете, и кто и зачем.
– Зачем? – повторил он за мной и вслед за тем залился добродушным смехом. – Да очень понятно, зачем! Наверное, у вас на кухне лишние куски остаются, так вот… Ах, все мы говядинку любим! – прибавил он со вздохом. – Но, разумеется, ежели вы протестуете…
– Нет, я не протестую. Говядина и даже телятина… не в том дело! Но я желаю уяснить себе следующее: не должен ли я считать пребывание постороннего человека в моей кухне за нарушение неприкосновенности моего очага?
– Нисколько.
– Очень рад, что таково ваше мнение. Садитесь, пожалуйста, и будем обедать.
– Но, может быть, вы еще сомневаетесь? – успокаивал он меня. – В таком случае скажу вам следующее: человек, о котором вы говорите, есть не что иное, как простодушнейшее дитя природы. Если вы его попросите, то он сам будет бдительно ограждать неприкосновенность вашего очага. Испытайте его! потребуйте от него какой-нибудь послуги, и вы увидите, с каким удовольствием он выполнит всякое ваше приказание!
Одним словом, он вновь успокоил меня. Наши отношения возобновились, и я тем скорее забыл недавние недоразумения, что по части краеугольных камней я, в сущности, не уступил бы самому правоверному из становых приставов. В одном только я опять не остерегся – это по вопросу о дворянской обиде.
– Обидели! – восклицал я, – так обидели, что даже в истории не бывало примеров более горькой обиды! В истории – понимаете? – в истории, которая потому только и признается поучительной, что она сплошь из одних обид состоит!
Затем я закусывал удила и начинал доказывать. Доказывал горячо, с огоньком и в то же время основательно. Во-первых, нас не спросили; во-вторых, нас не вознаградили за самое главное… за наше право! в-третьих, нас поставили на одну доску… с кем!!! в-четвертых, нам любезно предоставили ликвидировать наши обязательства; в-пятых, нас живьем отдали в руки Колупаевым и Разуваевым; в-шестых…
Хорошо, однако ж, что я, в пылу доказательств, имею привычку от времени до времени взглядывать на моего собеседника. И вот однажды, подняв глаза на Грацианова, я увидел, что все лицо его светится улыбкою.
– Чему вы смеетесь? – воскликнул я на этот раз довольно грубо, потому что решился, наконец, вывести эти улыбки на свежую воду.
Однако он и тут очень ловко вывернулся.
– Тому и смеюсь, что наконец-то и вы убедились, – сказал он. – Помните наш недавний разговор? Я говорил, что обидели господ дворян, а вы утверждали, что не обидели, а только воздали каждому должное… Радуюсь, что, по крайней мере, хоть теперь…
Но я уже не верил коварным оправданиям и с запальчивостью ответил:
– Нет, нет! не тому вы смеялись, а совсем другому… Вы думаете, что я наконец проговорился… ну, так что ж! Ну обидели! допустим даже, что я сказал это! Ну и сказал! Ну и теперь повторяю: обидели!.. что ж дальше? Это мое личное мнение – понимаете! мнение, а не поступок – и ничего больше! Надеюсь, что мнения… ненаказуемы… черт побери! Разве я протестую? разве я не доказал всей своей жизнью… Вон незнакомец какой-то ко мне в кухню влез, а я и то ни слова не говорю… живи!
Одним словом, неуместной своей горячностью я чуть было не довел дело до размолвки. К счастью, он выказал в этом случае замечательное самообладание и, вместо того, чтоб обидеться моими подозрениями, начал очень мило и ловко меня урезонивать. Говорил ласковые слова, и притом не на дьячковский манер, без знаков препинания, а тепло, сердечно, с очевидным участием. Просил довериться ему, убеждал, что хотя лично и не имеет чести называться дворянином, но всегда сочувствовал дворянской обиде… И вдруг, в то самое время, когда сердце мое уже начало раскрываться навстречу его речам, он совершенно неожиданно присовокупил:
– А что, попротестовать-то, чай, все-таки хочется?
Это уж было такое явное подстрекательство, что я не выдержал.
– Никогда! – ответил я решительно и холодно.
– Чего уж там: никогда! по глазам вижу, что хочется! хочется! хочется!
– Повторяю вам: никогда!!!
– Но почему же, наконец?
– Потому, во-первых, что протест несочувствен для меня лично, а во-вторых, потому что он не согласуется с нашими традициями. Знайте, сударь, что наши предки могли свариться друг с другом, могли выщипывать друг у друга бороды по волоску, но протестовать… не могли! нет! никогда!
Я не без достоинства встал из-за стола и удалился в кабинет, оставив его на досуге размыслить, насколько имела успеха по отношению ко мне его пресловутая «система вопрошения».
И вот однажды он пришел ко мне утром и, не говоря худого слова… поцеловал меня!
– Давно уж я выжидаю этого момента и наконец теперь могу исполнить мое давнишнее и искреннее желание! – воскликнул он, облизывая губы.
Разумеется, я смотрел на него испуганными глазами.
– Не удивляйтесь, – продолжал он, – и выслушайте меня. При самом вступлении моем в должность, услышав от батюшки о ваших опасениях, я сразу принял в вас самое горячее участие. После того вы лично подтвердили мне эти опасения, причем чистосердечно во всем сознались, и это еще больше меня тронуло. Я решился устроить вашу жизнь настолько прочно, чтоб вы не могли иметь никаких сомнений насчет ее непрекратимости. Но, разумеется, по долгу службы я должен был предварительно убедиться, что вы действительно этого заслуживаете. С этой целью я, по обыкновению, прибегнул к системе вопрошения и теперь, после месячного испытания, могу, положа руку на сердце, свидетельствовать: вы не только удовлетворили всем моим требованиям, но даже предъявили несколько более, чем я ожидал. Я прикидывался ненавистником буржуазии, но вы доказали мне, что последняя имеет несомненные права на существование. Я облыжно называл себя демократом, но вы благородно мне отказали в вашем сочувствии по этому предмету. Я кощунственно утверждал, что начальство само не сознает своих польз, но вы с негодованием отвергли самое предположение о таковом несознании. Когда же я с притворным участием отнесся к дворянской обиде, то вы хотя и не отрицали таковой, но при этом выказывали такую беззаветную покорность судьбе, которая неоднократно вызывала на мои глаза слезы умиления. Наконец, сознаться ли до конца? Я командировал к вам на кухню особого доверенного человека, с тем, чтобы он собрал под рукой вернейшие о вас сведения, и добытый этим исследованием результат представляется в следующем виде:
никогда в целом околотке не видали столь твердого в бедствиях землевладельца, как вы! Сами кабатчики – и те о том с умилением засвидетельствовали. Итак, отныне все недоразумения кончены. Вы – наш, и мы – ваши!
Высказавши это, он, конечно, ожидал, что я брошусь в его объятия; но я молчал. Тогда он продолжал:
– Забыл. Вы даже мне лично оказали неоцененную услугу, разъяснив разницу, которая существует между помышлениями обывателей и их поступками. Это в значительной степени упрощает задачи внутренней политики, хотя, с другой стороны, в такой же степени умаляет их блеск. Во всяком случае… благодарю.
Он протянул ко мне обе руки, но я с самого начала этой сцены до того растерялся, что руки эти так и остались протянутыми в пространстве. Тогда он фамильярно потрепал меня по плечу и произнес:
– Привыкнете, друг мой, привыкнете!
В тот же день кабатчик Колупаев пригласил меня к себе на вечорку, предупредив, что у него соберется вся наша сельская интеллигенция для игры в стуколку.
И я был там, играл с Грациановым и другими гостями в стуколку, проиграл целую уйму пятаков, говорил комплименты кабатчице Колупаевой, ухаживал за ее дочкой, пил водку, закусывал рыжей икрой, а за ужином ел говяжий студень с хреном. Вообще, по оказанному мне радушному приему я убедился, что кабатчики, наконец, примирились со мной и допустили меня в свою среду. Нет сомнения, что я был обязан этим Грацианову.
После этого у нас началось настоящее веселье, и Грацианов оказался истинным мастером по части соединения общества. Вечера следовали за вечерами, сначала у кабатчика Прохорова, потом у другого кабатчика, Осьмушникова, а наконец, я и сам задал пир на весь мир. Мало того: когда Грацианов по секрету сообщил мне, что ему нравится дочка Колупаева, то я охотно принял участие в сватовстве и очень ловко выведал у родителей, что за невестой будет дано пятьсот рублей деньгами и, кроме всякого платья, лисий «монтон», четыре перины, два самовара и мериносовый платок.
Но жизнь моя уже была надломлена: я каждый день ожидал, что Грацианов опять поцелует меня. Не то, чтобы мне были антипатичны, собственно, административные поцелуи, но, будучи характера нелюдимого и малообщительного, я вообще не имею к поцелуям пристрастия.
И вот я вспомнил, что в губернии служит в качестве очень авторитетного лица один из моих товарищей по школе, и отправился в город с целью во что бы то ни стало разъяснить себе вопрос: имеет ли право Грацианов целовать меня по своему усмотрению? Мой старый друг очень благосклонно выслушал всю историю моих сношений с Грациановым и все действия последнего нашел в высшей степени легкомысленными. Во-первых, он не имел права принимать мою исповедь и, во-вторых, еще меньшее право имел подвергать меня испытанию. Он просто-напросто должен был ожидать поступков.
– Что же касается до поцелуев, – прибавил мой друг, – то я ничему другому не могу приписать это, как дурной привычке, приобретенной им, вероятно, еще в училище для детей канцелярских служителей.
Но этого мало: он убедил меня, что в настоящее время порядочный человек не только не имеет причин опасаться внезапных жизненных метаморфоз, но даже обязывается жить для славы своего отечества.
– Ты сам виноват, душа моя, – сказал он, – с одной стороны, ты слишком мрачно смотришь на вещи, а с другой – чересчур уж смирен и не выказываешь ни малейшей самостоятельности. Будь тверже, голубчик, и живи! Живи, потому что и твоя жизнь еще может быть полезной.
И я живу.
МОНРЕПО-УСЫПАЛЬНИЦА
Мало-помалу тревога, возбужденная во мне появлением на нашем сельском горизонте Грацианова, улеглась. Да ежели говорить по правде, и тревожного тут ничего не было, и только исключительные условия, составляющие мою личную особенность, могли содействовать возведению такого пустого факта на степень переполоха. Дело в том, что у меня с малых лет напугано воображение, и напугано, надо сказать правду, начальством. Всю жизнь я ничего другого не видел перед собой, кроме начальников; всю жизнь мне твердили: тупа арифметика, косноязычна грамматика, ежели нет в сердце спасительного, начальственного трепета. Сначала я смотрел на родителей как на начальство; потом поступил в заведывание воспитателей, которые тоже надувались и говорили: «Мы – ваше начальство!» – а наконец, и вправду попал начальству в руки. Ну, натурально, испугался. Напоследях спрятался в Монрепо и думал: уж тут-то меня не настигнет начальственный взор – и вдруг Грацианов!..
Lui! toujours lui! [5]
Но, в сущности, повторяю, все эти тревоги – фальшивые. И ежели отрешиться от мысли о начальстве, ежели победить в себе потребность каяться, признаваться и снимать шапку, ежели сказать себе: за что же начальство с меня будет взыскивать, коли я ничего не делаю, и ежели, наконец, раз навсегда сознать, что и становые и урядники – все это нечто эфемерное, скоропреходящее, на песце построенное (особливо, коли есть кому пожаловаться в губернии), то, право, жить можно. Умирать же и подавно ни от кого запрета нет…
А умирать – пора. Не умереть, а именно умирать, освобождаться от жизни постепенно, непостыдно, сладко. Среди царящей суматохи, где слышатся голоса только бесчисленного множества темпераментов, где нападающие не знают, на кого они нападают, а защищающиеся – от кого они обороняются, где нет речи об идеале, а мечется в глаза только обнаженный факт борьбы, – в такой суматохе ничего лучшего не придумаешь, как схорониться в укромное место и там – начать умирать.
«Там», то есть в Монрепо. Нигде не найдется для самого прихотливого умирания такого простора, такой тишины, такой безусловной изолированности; нигде нельзя так незаметно и естественно окунуться в область неизвестного. И ежели я говорю, что в качестве усыпальницы Монрепо представляет собой нечто ни с чем несравнимое и исключительное, то говорю это именно по сущей совести, а совсем не в виде рекламы. Мало того, я вполне искренно утверждаю, что наши фрондирующие помещики слишком мало принимают в расчет это свойство принадлежащих им Монрепо и только поэтому так дешево сбывают их всевозможным хищникам новейшей формации, которые спешат обратить их в кабаки.
Прежде всего, как на отличнейшую особенность Монрепо, я могу указать на полнейшее отсутствие утешений медицины. Я не отрицаю заслуг врачебной науки и ее служителей, но мне кажется, что ежели раз человек решил, что жить довольно, то, при известной дозе порядочности, даже не совсем прилично обороняться от смерти. Пускай люди, исполненные цветения и сил, мечтают о жизни – это их право; человек умирающий, в видах собственного ограждения, должен забыть и о цветении, и о силе, и вообще о каких бы то ни было правах на жизнь. Единственное баловство, которое ему разрешается, – это, по возможности, устроить удобную обстановку для предстоящего умирания. А в этом смысле, опять-таки повторяю, Монрепо неоцененно. В городе никак не выдержишь, непременно начнешь обороняться. Обратишься к человеку науки, который затормозит естественный процесс умирания, подольет в лампаду чего-то не настоящего, а «заменяющего», и заставит ее лишний срок чадить. В Монрепо подобное малодушие уже по тому одному немыслимо, что там нет ни мужей науки, ни «заменяющих» снадобьев. Обитатель Монрепо потухает сам собой, естественно, неизбежно. Потухает с отрадным убеждением, что последние его мерцания не отравили окрестности запахом злоуханной гари, которая при других, менее благоприятных условиях непременно вконец измучила бы человека, заменив подлинную жизнедеятельность искусственным калечеством.
Но, сверх того, истинно «сладкое» умирание возможно только под условием полной и невозмутимой тишины. И этого условия ни в городе, ни даже в деревне не добудешь, а найдешь в одном Монрепо. Везде царит либо рабочая суета, либо разгул; наконец, везде отыщутся друзья, люди, принимающие участие, любопытные. Только в Монрепо нет ни работы, ни разгула, ни друзей, ни любопытных – разве это не блаженство? Ничто не шелохнется кругом, ни один звук не помешает естественному потуханию. Особливо зимой. Монрепо, потонувшее в сугробах снега, – да это земной рай!
Природа оцепенела; дом со всех сторон сторожит сад, погруженный в непробудный сон; прислуга забралась на кухню, и только смутный гул напоминает, что где-то далеко происходит галдение, выдающее себя за жизнь; в барских покоях ни шороха; даже мыши – и те беззвучно перебегают из одного угла комнаты в другой. Сидишь себе в кресле один-одинешенек или бродишь усталыми ногами взад и вперед по запустелой анфиладе – и чувствуешь, ясно чувствуешь, как постепенно внутри у тебя тает и погасает. По совести говорю: слаще этого чувства нет. К нему можно пристраститься до упоения, с ним можно возвыситься до одичалости. Даже пропинационная привилегия – и та не может идти в сравнение с этой прекраснейшей привилегией постепенного умирания среди сладчайшей тишины.
Нам, людям тридцатых, сороковых и иных годов, это в особенности понятно, потому что с нами в последнее время случилось нечто не совсем обыкновенное. Всё-то мы жили да жили и вдруг потеряли что-то самое нужное и разом сделались неспособными принимать участие в делах и вещах современности. Я знаю, что и между нами найдутся личности, которые непрочь еще похорохориться, устроить недоразумение и погарцевать перед застигнутой врасплох толпой в качестве заправских деятелей; но большинство отлично понимает, что являться в публику с запасом забытых слов – именно значит только длить бесплодные недоразумения. Положим, что эти выцветшие слова в былое время были полны содержания и освещали жизнь, но какое дело до них современности? В былое время они были и хороши и необходимы, а теперь…
Когда я начинаю думать о современности, то, признаюсь, она представляется мне не иначе, как в виде ящика с двойным дном. В котором дне обретается «настоящая штука» – поди, угадай! Да и какая еще «штука» – может быть, райская птица, может быть, крокодил? И помоложе, половчее нас люди – и те не угадывают, а только поневоле, как-нибудь изворачиваются, наудачу хватаются за первое, что под руку попадет. Именно поневоле, потому что эти люди уже фаталистически «обречены» жить, а стало быть, и изворачиваться. А мы обречены умирать и, следовательно, от угадываний свободны. Но, по-моему, это-то именно и есть настоящее благо. Это тем более благо, что, всмотревшись пристальнее в проносящуюся мимо нас сутолоку современности, по совести, нельзя не воскликнуть: «Ах, как бесконечно мучительна должна быть роль деятеля среди этой жизни с двойным дном!»
Да, такая жизнь даже более, нежели мучительна, она постыдна. Перед глазами мечется какая-то бесконечная фантастическая сказка: не разберешь, что тут действительность и что – сонное видение. Наиреальнейшие, с первого взгляда, факты – и те являются в сопровождении таких подозрительных околичностей, которые отнимают у них все признаки подлинной реальности. Все окружающее, вся жизнь – все служит источником самых язвительных вопросов, и, что всего мучительнее, ни на один из этих вопросов вы не найдете нигде вполне вразумительного ответа. Я мог бы назвать здесь целую свиту вполне несомненных и доказательных фактов, которые несомненно подтвердили бы и объяснили мою мысль, и тем не менее не называю их. Почему же я не называю их? А потому именно, что всечасно и всеминутно ощущаю себя защемленным между двойным дном. Ведь все равно, говорю я себе, из моих указаний ничего не выйдет, так лучше уж я… Ах! какая масса тут малодушия, предательства, лганья!
Но ежели немыслимы определенные ответы, то очевидно, что немыслимы ни правильные наблюдения, ни вполне твердые обобщения. Ни жить, стало быть, нельзя, ни наблюдать жизнь, ни понимать ее. Везде – двойное дно, в виду которого именно только изворачиваться можно или идти неведомо куда, с завязанными глазами. Представьте себе, что вы нечаянно попали в комнату, наполненную баснописцами. Собралось множество Езопов, которые ведут оживленный разговор – и всё притчами! Ясно, что тут можно сойти с ума.
И вот для того, чтобы не быть обязанным ни жить, ни понимать жизнь, ни говорить притчами, самое лучшее дело – это затвориться в Монрепо. А если при этом и сама охота к жизни пропала, то это уж и совсем хорошо. Правда, что есть у нас, культурных людей, слабость баловаться журналами и газетами, которые все-таки более или менее препятствуют полному забвению жизни, но тут уже необходимо принять героические меры. А именно: разом прекратить доступ для всего, что напоминает о книгопечатании и сопряженных с ним учреждениях. В противном случае двойное дно проникнет и в Монрепо.
Ибо у жизни, снабженной двойным дном, и литература не может быть иная, как тоже с двойным дном. Газеты, например, положительно могут измучить. Помещая на столбцах своих факты, по-видимому, самые обыденные, они будут ежедневно пробуждать в отшельнике целый рой томительных сновидений. Произвели, например, коллежского советника Растопырю за отличие в следующий чин, – кажется, что может быть проще, обыденнее этого известия? А между тем вдумайтесь в него, и вы удивитесь, какой бесконечный ряд томительнейших вопросов поднимется перед вами по его поводу! Во-первых, вопросы высшего порядка. Подлинно ли Растопыря заслужил производство в следующий чин? Не было ли тут интриги, непотизма, лакомства, не скрывается ли за этим фактом ходатайство Гулак-Артемовской? Все это – вопросы важные, существенные, ибо при утвердительном ответе на них («да, по ходатайству Гулак-Артемовской») воображению представляется картина развращения нравов, а при ответе отрицательном – картина чистоты нравов. Согласитесь, что для патриота своего отечества это далеко не безразлично. Затем опять вопросы: сумеет ли Растопыря в новом чине заслужить то доверие начальства, которое он умел заслужить в старом чине? каких облегчений вправе ожидать от него отечество, буде он и впредь, с такой же неуклонностью, будет подвигаться по лестнице почестей и отличий? А наконец, и вопросы порядка низшего, личного. Каким оком, милостивым или немилостивым, взглянет Растопыря на Монрепо и скрывающегося в нем отшельника? не найдет ли он, что сам факт отшельничества есть факт подозрительный, влекущий за собой лишение хотя и не всех – у Растопыри доброе сердце, – то хотя некоторых прав состояния? И ежели это факт подозрительный и влекущий, то… И так далее, и так далее.
Какие ответы я найду на эти вопросы в газетах? положительно никаких! Так зачем же мне знать об этом производстве? зачем я буду заставлять мою мысль опускаться куда-то на второе дно, где этот скромно выглядывающий с газетного столбца Растопыря, быть может, явится в таком угрожающем виде, который все мое существо наполнит испугом? И, что всего важнее, испугом напрасным, ибо я знаю наверное, что Растопыря – малый доброжелательный, который если и позволит себе лишить меня некоторых прав состояния, то не иначе, как в видах моей же собственной пользы.
А потом пойдут газетные «слухи»… ах, эти слухи! Ни подать руку помощи друзьям, ни лететь навстречу врагам – нет крыльев! Нет, нет и нет! Сиди в Монрепо и понимай, что ничто человеческое тебе не чуждо и, стало быть, ничто до тебя не касается. И не только до тебя, но и вообще не касается (в Монрепо, вследствие изобилия досуга, это чувство некасаемости как-то особенно обостряется, делается до болезненности чутким). А ежели не касается, то из-за чего же терзать себя?
Нет, все это надобно прекратить. Не нужно ни журналов, ни газет, тем больше не нужно, что нынче в любом деревенском кабаке, в любой «портерной» найдется эта отрава, так что совсем от жизни все-таки не убежишь. Пойдет в кабак кто-нибудь из присных, и непременно или сам что-нибудь вычитает или вдоволь наслушается. Потом расскажет в людской, а напоследок проберется в комнаты и там начадит. По мнению моему, этим путем получать вести из мира живых, во всяком случае, менее мучительно, нежели сообщаться с ним посредством книгопечатания. Ибо, слушая, как сын природы несет ахинею, вы все-таки имеете возможность хоть тем утешить себя, что, может быть, он и переврал.
Именно так я прошлой зимой и поступил. Еще 31 декабря я чувствовал себя в компании баснописцев, и вдруг с 1 января наступила невозмутимая тишина. Все это взбаломученное море, которое еще вчера с таким бесцельным гвалтом бушевало в берегах, сегодня улеглось как бы по манию волшебства. Картины, волновавшие кровь, начали сокращаться, таять и исчезать. Сначала исчезли болгары, потом Афганистан и Зулу, потом ветлянская интрига, потом еще интрига и еще интрига, а наконец, и слухи о предстоящем финансовом возрождении… Последние, впрочем, держались несколько упорнее, потому что ведь и умирать не совсем ловко, когда не умеешь ясно ответить на вопрос: что такое рубль? Стало быть, с этой стороны, то есть со стороны мира живых, я совсем квит. Мне скажут, может быть, что отсутствие памятников книгопечатания представляет очень важный пробел в человеческом существовании, потому что и т. д. Но, во-первых, газета «И шило бреет» – разве это памятник? а во-вторых, я ведь не о «существовании» и речь повел. Я говорю об умирании, об одном умирании, а с этой точки зрения, право, лучше не надо.
Вместе с прочими, отравляющими жизнь представлениями, постепенно начало сглаживаться и представление о Грацианове. Очевидно, моя поездка в губернию смутила его… Он сделался сдержаннее, при встречах не делал мне ручкой, но молча прикладывался под козырек, причем с явно утрированной почтительностью выгибал шею и откидывал назад поясницу. А главное, не только перестал меня испытывать, но даже совсем ко мне не приходил. Только от времени до времени я примечал из окна, что он меланхолически бродил по моему парку, напевая какой-то романс, – вероятно, «Черный цвет». Очевидно, он хотел дать мне почувствовать этим, как он мог бы любить, если бы я только захотел, и как много я потерял, устранившись от его ласк… Я это очень хорошо понимал и, грешный человек, иногда даже готов был выслать ему рюмку водки, но, к счастью, голос рассудка и соблазнительная картина непостыдного умирания восторжествовали над легкомысленными угрызениями совести.







