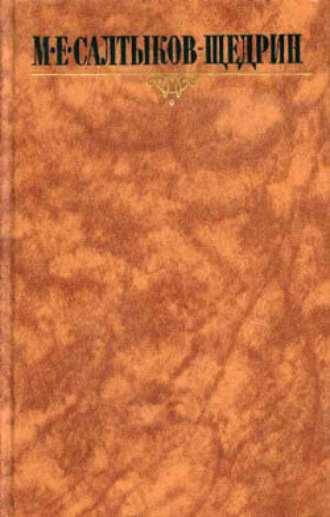
Михаил Салтыков-Щедрин
Убежище Монрепо
Одним словом, происходит нечто в высшей степени странное. Земля, мельница, огород – все, по-видимому, предназначенное самою природой для извлечения дохода – все это оказывается не только лишним, но и прямо убыточным…
Поэтому истинное пользование «своим углом» и истинное деревенское блаженство начнутся только тогда, когда не будет ни лугов, ни лесов, ни огородов, ни мельниц. Скотный двор можно упразднить, а молоко покупать и лошадей нанимать, что обойдется дешевле и притом составит расход, который заранее можно определить, а следовательно, и приготовиться к нему. Можно упразднить и прислугу, а держать только сторожа и садовника, необходимого для увеселения зрения видом расчищенных дорожек и изящно убранных цветами клумб.
Когда все это будет достигнуто, культурный человек может наслаждаться и отдыхать по всей своей воле. А ежели надоест ему отдыхать, то может и заняться тем делом, которое ему по душе.
Но какое же это дело? – вот в чем вопрос.
Странная вещь, но когда встречаешься с этим вопросом, делается не только просто совестно, но почти тоскливо-совестно.
Объяснение этой тоски, я полагаю, заключается в том, что у культурного русского человека бывают дела личные, но нет дел общих. Личные дела вообще несложны и решаются быстро, без особых головоломных дум; затем впереди остается громадный досуг, который решительно нечем наполнить. Отсюда – скука, незнание куда преклонить голову, чем занять праздную мысль, куда избыть праздную жизнь. Когда перед глазами постоянно мелькает пустое пространство, то делается понятным даже отчаяние.
Повторяю: в массе культурных людей есть уже достаточно личностей вполне добропорядочных, на которых насильственное бездействие лежит тяжелым ярмом и которые тем сильнее страдают, что не видят конца снедающей их тоске. Чувствовать одиночество, сознавать себя лишним на почве общественных интересов, право, нелегко. От этого горького сознания может закружиться голова, но, сверх того, оно очень близко граничит и с полным равнодушием.
Чтобы читать книжку, следить за наукой, литературой и искусством – для всего этого нет никакой надобности в своем собственном угле, и в особенности на берегу Финского залива. Гораздо более удобств в этом смысле представляют Эмсы, Баден-Бадены, Трувили, Буживали, Лозанны и пр.
Для чего культурному человеку изнывать в каких-то сумерках, лишенных света и тепла, когда те задачи, преследование которых ему доступно, он может вполне удобно переносить с собой в такие местности, в которых вдоволь и тепла и света? Для чего он будет выносить в своей Заманиловке тьмы тем всякого рода лишений и неудобств, когда при тех же материальных затратах он может «в другом месте» прожить без мучительной заботы о том, позволит ли подоспевший сенокос послать завтра в город за почтой?
Человек – животное общественное, а в Заманиловке он обязывается временно одичать; человек – животное плотоядное, а в Заманиловке он обязывается сделаться отчасти млекопитающим, отчасти травоядным. Наконец, Заманиловка заставляет его нуждаться в услугах множества лиц, что в высшей степени неприятно щекочет совесть. И к довершению всего, перед глазами – пустое пространство.
Вникните в это положение, и вы должны будете сознаться, что оно поистине мрачно. Есть натуры очень строптивые и упорнолюбящие, в которые червь равнодушия заползает лишь после долгой борьбы, но и те, в конце концов, уступают. Капля точит камень.
И вот перед этими людьми встает вопрос: искать других небес. Там они тоже будут чужие, но зато там есть настоящее солнце, есть тепло и уже решительно не нужно думать ни о сене, ни о жите, ни об огурцах. Гуляй, свободный и беспечный, по зеленым паркам и лесам, и ежели есть охота, то решай в голове судьбы человечества.
Я высказываю здесь далеко не все, что можно было бы сказать об этом предмете; я поднимаю только малейший угол завесы, скрывающей бесконечную перспективу, но уверяю, от одной мысли об этой перспективе становится неловко.
Как-то ничто не спорится нам, и каждый наш успех почему-то оказывается фиктивным. Двоегласие очевидно, и оно невольно заставляет предполагать, что рядом с успехом идет нечто такое, что тут же, сейчас же подрывает его.
В чем же, однако ж, беда? откуда она идет и почему над нами стряслась?
Но тут я должен поставить точку и закончить словами, которые покамест на всякий вопрос представляют наиболее подходящий ответ, а именно: не наше дело.
ТРЕВОГИ И РАДОСТИ В МОНРЕПО
Мы живем среди полей
И лесов дремучих…
Нынешней осенью, живя в Монрепо, я был неожиданно взволнован: в наше село переводили становую квартиру…
В деревне подобные известия всегда производят переполох. Хорошо ли, худо ли живется при известной обстановке, но все-таки как-нибудь да живется. Это «как-нибудь» – великое дело. У меньшей братии оно выражается словами: живы – и то слава Богу! у культурных людей – сладкой уверенностью, что чаша бедствий выпита уж до дна. И вдруг: нет! имеется наготове и еще целый ушат. Как тут быть: радоваться или опасаться?
В настоящем случае поводы радоваться, несомненно, существовали. До сих пор мы жили совсем без начальства, как овцы без пастыря. Натурально, блуждали и даже заблуждались. Некому было пожаловаться, не у кого искать защиты. Особливо нам, культурным людям, приходилось плохо. Работник загуляет или заспорит в расчете – как с ним рассудиться? В лесу пропадет дерево, или в огороде срежут кочан капусты – к кому взывать об отмщении? А с мальчишками сельскими так просто сладу нет: обнеситесь от них решеткой – они под решеткой лазы сделают; обройтесь канавой – через неделю вся канава изукрасится тропами. Как тут быть? Мировой судья судит от нас в двадцати пяти верстах; становой пристав живет где-то уж совсем за болотами, так что легче в Париж съездить, чем до него добраться. Сотские – мирволят; волостной старшина – тот на все жалобы только икает: мне, дескать, до вас, культурных людей, дела нет! В виду всего этого мне и самому не раз-таки приходило в голову: вот кабы становой был поближе, тогда… Стало быть, теперь, когда желание мое было осуществлено, я имел, по-видимому, полное основание считать себя довольным и осчастливленным.
Но были поводы и для опасений, и прежде всего – неизвестность. Конечно, я имел о становом достаточно отчетливое понятие, но о становом дореформенном, которого и в глаза и за глаза называли куроцапом. В местностях, изобиловавших культурными людьми, это было существо вполне жалкое, в потертом вицмундире с дрожащими сзади фалдочками, с воспаленными от дорожной пыли глазами, с физиономией, замасленной, как блин, и не имевшей никакого иного выражения, кроме готовности во всякую минуту проглотить рюмку водки. И как дополнение к нему становиха, сухая как щепка, вследствие беспрерывных беременностей, но и за всем тем беременная. Такого станового, разумеется, опасаться было нечего. Но ведь с тех пор много воды утекло. Говорят, будто становым новые мундиры пошили, и с тех пор будто бы они приняли в свое заведывание основы и краеугольные камни. И еще говорят, будто они, «яко боги», получили дар читать в сердцах человеческих и что вследствие сего, ежели прочтут в чьем сердце обращенное к ним слово «куроцап», то сейчас же делают соответствующее распоряжение. А, наконец, некоторые утверждают, что они самим названием «становой пристав» уже начинают тяготиться, признавая его не исчерпывающим всего содержания их деятельности, и ходатайствуют, чтобы им присвоен был такой титул, который прямо говорил бы о сердцеведении, и чтобы в сообразность с ним было, разумеется, увеличено и самое содержание. Я не знаю, насколько эти слухи заслуживают вероятия, но если верно из них хоть одно то, что становым дали новую обмундировку, то и тогда уже надо держать ухо востро. Что будет, если «он», вместо того чтобы ограждать мои луга от потравы, начнет читать в моем сердце? Прочтет одну страницу, помуслит палец, перевернет, прочтет другую и так далее до конца?
В виду этих сомнений я припоминал свое прошлое – и на всех его страницах явственно читал: куроцап! Здесь обращался к настоящему и пробовал читать, что теперь написано в моем сердце, но и здесь ничего, кроме того же самого слова, не находил! Как будто все мое миросозерцание относительно этого предмета выразилось в одном этом слове, как будто ему суждено было не только заполнить прошлое, но и на мое настоящее и будущее наложить неистребимую печать!
Я испугался. Уныло ходил я по аллеям своего парка и инстинктивно перебирал в уме названия различных более или менее отдаленных городов. Потом пошел на мельницу, но и там шум бегущей воды навеял на меня унылые мысли. «Жизнь человеческая, – думалось мне, – подобна этой воде. Сейчас мы видим ее заключенной в бассейне, а через момент она уже устремляется в пространство… куда?» Потом пошел по реке к тому месту, где вчера еще стояла полуразрушенная беседка, и, увидев, что за ночь ветер окончательно разметал ее, воскликнул: «Быть может, подобно этой беседке, и моя полуразрушенная жизнь…»
Одним словом, какая-то неопределенная тоска овладела всем моим существом. Иногда в уме моем даже мелькала кощунственная мысль: «А ведь без начальства, пожалуй, лучше!» И что всего несноснее: чем усерднее я гнал эту мысль от себя, тем назойливее и образнее она выступала вперед, словно дразнила: лучше! лучше! лучше! Наконец я не выдержал и отправился на село к батюшке в надежде, что он не оставит меня без утешения.
Батюшка уже был извещен о предстоящей перемене и как раз в эту минуту беседовал об этом деле с матушкой. Оба не знали за собой никакой вины и потому не только не сомневались, подобно мне, но прямо радовались, что и у нас на селе заведется свой jeune home [3]. Так что когда я после первых приветствий неожиданно нарисовал перед ними образ станового пристава в том виде, в каком он сложился на основании моих дореформенных воспоминаний, то они даже удивились.
– Помилуйте! да вы об ком это говорите! – воскликнул батюшка, – наверное, про Савву Оглашенного (был у нас в древности такой становой, который вполне заслужил это прозвище) вспоминаете? Так это при царе Горохе было, а нынче не так! Нынешнего станового от гвардейца не отличишь – вот как я вам доложу! И мундирчик, и кепё, и бельецо! Одно слово, во всех статьях драгунский офицер!
– А какой у нашего нового станового образ мыслей! – томно присовокупила матушка, закатывая глаза.
Признаюсь, я не без волнения слушал эти похвалы, потому что они подтверждали именно то, чего я боялся. В особенности напоминание об «образе мыслей» встревожило меня.
– Говорят, будто он будет в сердцах читать? – робко спросил я. – Правда ли это?
– Всенепременно-с.
– Помилуйте! да что же он там прочтет?
– Что написано, то и прочтет. Ежели у кого написано: не похваляется – он и в ремарку так занесет; а ежели у кого в сердце видится токмо благое поспешение – он и в ремарке напишет: аттестуется с похвалой!
– Батюшка! да как же это! ведь он куроцап!
Батюшка удивленно вскинул на меня глазами и даже слегка помычал.
– Это прежде куроцапы были, а по нынешнему времени таких титулов не полагается, – холодно заметил он, – но ежели бы и доподлинно так было, то для имеющего чистое сердце все равно, кому его на рассмотрение предъявлять: и «куроцап» и «не куроцап» одинаково найдут его чистым и одобрения достойным! Вот ежели у кого в сердце свило себе гнездо злоумышление…
Батюшка остановился: он понял, что не великодушно добивать колкостями и без того уже убитого человека, и с видимым участием спросил:
– Разве чувствуете какую-либо вину за собой?
Вопрос этот смутил меня. И прежде не раз мелькал он передо мной, но как-то в тумане; теперь же, благодаря категорическому напоминанию батюшки, он вдруг предстал во всей своей наготе.
– Бывало… – ответил я уклончиво.
– Например?
– Да вообще… вся жизнь… Вот хоть бы «филантропии» эти… Конечно, до меня еще не добрались, а было и со мной… Занимался. Как вы думаете, повредит это мне?
– Смотря по тому… Разные «филантропии» бывают: и доброкачественные и недоброкачественные. За первые – похвала, за вторые – взыскание.
– То-то и есть, что я сам своих «филантропий» не разберу. Прежде мне казалось, что они доброкачественные, а вот теперь… Например, такая мысль: хотя свобода есть драгоценнейший дар творца, но она может легко перейти в анархию, ежели не обставлена в настоящем уплатой оброков, а в будущем – взносом выкупных платежей. Эту мысль я зарубил у себя на носу еще во время освобождения крестьян и, я помню, был даже готов принять за нее мученический венец. Как вы полагаете, какова эта «филантропия»? доброкачественная или недоброкачественная?
– По-моему, доброкачественная! Только вот «свобода»… Небольшое это слово, а разговору из-за него много бывает. Свобода! гм… что такое свобода?! То-то вот и есть… Не было ли и еще чего в этом роде?
– Было и еще. Когда объявили свободу вину, я опять не утерпел и за филантропию принялся. Проповедывал, что с вином следует обходиться умненько; сначала в день одну рюмку выпивать, потом две рюмки, потом стакан, до тех пор, пока долговременный опыт не покажет, что пьяному море по колено. В то время кабатчики очень на меня за эту проповедь роптали.
Батюшка слегка поморщился.
– Как вам сказать? – произнес он, – большой недоброкачественности и в этом не видится, а есть, однако… Откровенно вам доложу: на вашем месте я бы кабатчиков не трогал. Почему бы не трогал? – а потому, сударь, что кабатчик по нынешнему времени есть столп. Прежде были столпы – помещики, а нынче столпы – кабатчики. Поэтому я бы и не трогал их.
– Но ведь по существу…
– По существу – это точно, что особенной вины за вами нет. Но кабатчики… И опять-таки повторю: свобода… Какая свобода, и что оною достигается? В какой мере и на какой конец? Во благовремении или не во благовремении? Откуда и куда? Вот сколько вопросов предстоит разрешить! Начни-ка их разрешать, – пожалуй, и в Сибири места не найдется! А ежели бы вы в то время вместо «свободы»-то просто сказали: улучшение, мол, быта, – и дело было бы понятное, да и вы бы на замечание не попали!
– Но кто же мог это предвидеть? Кто мог думать, что когда-нибудь становые будут читать в сердцах?
– Мудрый все предвидит. Мудрый так поступает: что ему нужно – выскажет, а себя подсидеть – не допустит. Мудрый, доложу вам, даже от слова «филантропия» воздержится, а просто скажет «благое, с дозволения начальства, поспешение» – и кончен бал!
Батюшка остановился и не то укоризненно, не то с участием покачал на меня головой.
– Впрочем, – продолжал он, – ежели настоящим манером разъяснить и притом с раскаянием…
– Да вы, батюшка, со становым-то знакомы? – ухватился за эту мысль я.
– Знаком достаточно. Малый отличнейший! Молодой человек, кепё и все такое… Строгонек, конечно, но… с понятием.
– Так вот бы вы… Постарайтесь уж, батюшка! ведь тут вся штука в том, чтоб дело было представлено в надлежащем виде.
К моему удовольствию, батюшка согласился на мою просьбу. Он не взялся, конечно, отстоять мою абсолютную правду, но обещал защитить меня от злостных преувеличений, к которым, наверное, не усомнятся прибегнуть кабатчики, чтоб очернить меня перед начальством. Со своей стороны, я вспомнил, что нынешней осенью мне прислали сотню кустов какой-то неслыханной земляники, и предложил матушке в будущем году отделить несколько молодых отростков для ее огорода.
На селе, видимо, ждали. Кабатчики чистились и старались сообщить своим выставкам изящный вид. Однажды, проходя мимо меня, кабатчик Прохоров (он же по воскресеньям и праздникам открывал у себя сельский танцкласс) бойко приподнял картуз и поздравил:
– С начальством-с!
– Не боитесь?
– Напротив-с. Даже-с с надеждою ожидаем.
Я достаточно на своем веку встречал новых губернаторов и других сильных мира, но никогда у меня сердце не ныло так, как в эти дни. Почему-то мне вдруг показалось, что здесь, в этой глуши, со мной все можно сделать: посадить в холодную, выворотить наизнанку, истолочь в ступе. Разумеется, предварительно завинив в измене, что при умении бойко читать в сердцах сделать очень нетрудно. Поистине, никогда я такого скверного чувства не испытывал.
Я понимал, что я российский дворянин, но и только. Затем я искал кругом себя тына или ограды, к которым можно бы, в случае нужды, прислониться, – и не находил. Я не состоял на службе – следовательно, с этой стороны защиты не имел. Я не пользовался громким титулом – следовательно, никого не мог пугнуть высокопоставленными связями. Я не был особенно богат – следовательно, никто не надеялся, что я под веселую руку созову у себя во дворе толпу мужиков и баб, заставлю их петь и водить хороводы и первым поднесу по стакану водки, а вторых – оделю пряниками. Кроме того, я никого не ограбил, контрактов на продовольствие армии и флотов не заключал, ничьим имуществом насильственно не завладел и даже ни у кого ничего на законном основании не оттягал – следовательно, никому не внушил ни страха, ни уважения. Это было до такой степени омерзительно, что многим казалось даже странным: зачем я живу? И уже, наверное, всякому думалось: «Вот кабы на место этого расслабленного да поселился в Монрёпо лихой купчина Разуваев (мой сосед по имению), то-то бы веселье у нас пошло!» Но этого мало. Вместо того, чтобы как можно бесповоротнее позабыть, что я российский дворянин, я с удивительной назойливостью об этом помнил. Я сохранил вкус к разведению садов и парков, что уже само по себе свидетельствует о заносчивости; но, сверх того, я не «якшался» и – говорят даже – выказывал наклонность «задирать нос». Существовал ли этот последний факт в действительности – по совести, я ни отвергнуть, ни утвердить этого не могу, но, вероятно, в самой моей отчужденности («неякшании») было что-нибудь такое, что давало повод обвинять меня и в «задирании носа». И, разумеется, это еще больше раздражало. «Мразь, а тоже, как мышь на крупу, надувается!» – в один голос твердили столпы-кабатчики.
Оголтелый, отживающий, больной, я сидел в своем углу, мысленно разрешая вопрос: может ли существовать положение более анафемское, нежели положение российского дворянина, который на службе не состоит, ни княжеским, ни маркизским титулом не обладает, не заставляет баб водить хороводы и, в довершение всего, не имеет достаточно денег, чтобы переселиться в город и там жить припеваючи на глазах у вышнего начальства.
Я ни в земство, ни в мировой институт не попал, и не только не попал, но ни разу даже не полюбопытствовал, что делается на съездах. Как-то всегда мне казалось, что незачем мне там быть, что я ни курить фимиам, ни показывать кукиш в кармане, ни устраивать мосты и перевозы – одинаково неспособен, а стало быть…
Повторяю: никто не мог ясно себе представить, зачем я живу, и, вследствие этого, многие думали и думают, что я злоумышляю.
За всем тем, я не только живу, но и хочу жить и даже, мне кажется, имею на это право. Не одни умные имеют это право, но и дураки, не одни грабители, но и те, коих грабят. Пора, наконец, убедиться, что ежели отнять право на жизнь у тех, которых грабят, то, в конце концов, некого будет грабить. И тогда грабители вынуждены будут грабить друг друга, а кабатчики – самолично выпивать все свое вино.
Я хочу жить, несмотря на то, что каждоминутно нахожусь в ожидании, что вот-вот меня нечто слопает. Что именно слопает – я даже не стараюсь догадываться, а прямо огулом думаю: «Все может слопать». Ожидание это держит меня в хроническом беспокойстве, заставляет смотреть на существование, как на что-то до крайности постылое, и все-таки не убивает во мне жажды жизни. Ах, эта проклятая жажда жизни! Каким образом она так крепко укореняется в человеке – я решительно не понимаю, но хочу жить, хочу. Все думается, что как-нибудь да вывернусь, то есть получу возможность приходить в разрушение постепенно, сам собою, в силу естественного хода вещей… (какой, однако ж, идеал!) А еще больше думается (и, сознаюсь, не без сладостного трепета думается), что когда-нибудь купец Разуваев, выведенный из терпения задиранием моего носа, вдруг вынет из кармана куш и скажет: «Получай и уйди с глаз долой!» Господи! вот кабы… Как бы, однако ж, Разуваеву при этом невзначай не нагрубить – ведь он, каналья, самолюбив! Он самолюбив, и я самолюбив; он потребует, чтоб я коленцо перед ним выкинул, а я за это ему в шею! Нет уж, так и быть, вытерплю! все вытерплю, даже коленцо выкину, лишь бы… И тогда, заполучив куш, уйду, уйду навсегда! поселюсь в городе, запишусь членом в клуб и буду каждый вечер забавляться в табельку по четверти копейки за пункт.
Весь преданный тревоге в ожидании начальства, я невольно спрашивал себя: «Почему же прежде никогда этого со мной не бывало? почему я прежде не сомневался в себе, а теперь – сомневаюсь! почему я прежде не предполагал, чтобы что-нибудь могло меня слопать, а теперь – не только предполагаю, но и всечасно того ожидаю?» И, по зрелом размышлении, должен был дать такой ответ: «Потому что прежде не было разделения людей на благонамеренных и неблагонамеренных, на благонадежных и неблагонадежных».
Понятий таких не было, а потому и лиц, которым удобно было бы взвалить на плечи качества, соединенные с этими понятиями, не существовало. Была одна маршировка.
Никто не мог себе представить, чтобы на всем лице российской империи нашелся человек, которому можно было бы сознательно присвоить титул неблагонамеренного или политически неблагонадежного лица. Не упоминалось ни об основах, ни о краеугольных камнях, а следовательно, не могло быть речи ни о подкапываниях, ни о потрясаниях. Все так естественно стояло на своем месте, что никому не приходило даже в голову полюбопытствовать, что тут такое стоит. Не было повода любопытствовать, да и прихотливых людей почти совсем не существовало. Всякий проходил мимо самых несомненных краеугольных камней точно так же бездумно, как бездумно проходит любой маленький чиновник свой ежедневный крестный путь от Песков до Главного Штаба или Сената. Для этого чиновника достаточно, что улица, по которой он проходил вчера, существует и ныне, и что она, по вчерашнему же, с обеих сторон ограничена домами, – стало быть, нет резона не существовать ей и завтра, и послезавтра, и так далее без конца.
Бывали, правда, и в то время казнокрады, вымогатели, взяточники; бывали даже люди, позволявшие себе носить волосы более длинные, чем нужно. Но это были лишь отдельные разновидности одной и той же семьи, существование которых не компрометировало ни основ, ни краеугольных камней. Или, лучше сказать, это были случайные носители «злой воли», которые и наказывались, сколько кому надлежит, ежели не умели хоронить концы в воду. Ты казнокрад – шествуй в Сибирь; ты отрастил гриву – садись на гауптвахту. Но о краеугольных камнях не упоминалось, обобщений не делалось, и стремления группировать людей на какие-то мнимые сословия («охранителей» и «прогрессистов», как некогда выразился академик Безобразов) – не существовало.
Понятно, что при такой простоте воззрений за глаза достаточно было и куроцапов, чтобы удовлетворять всем потребностям благоустройства и благочиния. В их ведении была маршировка, а так как в то время все было так подстроено, что всякий маршировал сам собой, то куроцапы не суетились, не нюхали, но просто взимали дани, а в прочее время пили без просыпу.
Но по мере нашего социального и интеллектуального развития, глаза наши все больше и больше раскрывались. И, наконец, раскрылись до того широко, что мы всю Россию поделили на два лагеря: в одном – благонамеренные и благонадежные, в другом – неблагонамеренные и неблагонадежные. А так как это деление последовало не на основании твердых фактических исследований, а просто явилось ответом на требование темперамента, взбудораженного преимущественно крестьянской реформой, то весьма естественно, что на первых же порах произошла путаница.
Наружных признаков, при помощи которых можно было бы сразу отличить благонамеренного от неблагонамеренного, нет; ожидать поступков – и мешкотно, и скучно. А между тем взбудораженный темперамент не дает ни отдыха, ни срока и все подсказывает: ищи! Пришлось сказать себе, что в этой крайности имеется один только способ выйти из затруднения – это сердцеведение.
Явился запрос на сердцеведение – явились и сердцеведы. Мало того, явились и помощники сердцеведов из числа охочих людей: публицисты, кабатчики, мелкие торгаши, старшины, писаря, церковники…
Все это я выяснил себе очень хорошо, но, к сожалению, никакой пользы от этих разъяснений для себя не извлек. Главное, у меня не было уверенности, что я сам-то благонамеренный. То есть я-то, собственно, очень твердо понимал себя таковым, но не знал, как оно выйдет перед судом сердцеведения.
Что я имел повод питать в этом отношении сомнения – в этом убеждал меня батюшка. Даже и он отозвался обо мне как-то надвое. Сначала сказал: доброкачественно, а потом присовокупил: только вот «свобода»… Только? И это, так сказать, с первого взгляда, а что же будет, если поискать вплотную? Да, «мудрый» так не поведет дела, как я его вел! «мудрый» покажет, что нужно, – и сейчас в кусты! А я? Впрочем, что же я, в самом деле, такое сделал?
И ничего и очень много – как посмотреть! И пятнадцать лет тому назад и как-будто только вчера – тоже как посмотреть. Тысяча лет яко день един – для таких проказ, пожалуй, и давности не полагается. «Свобода»! – право, даже смешно! Как это язык у меня повернулся? как он не отсох! А главное, как мне не пришло в голову заменить «свободу» улучшением быта? А теперь расплачивайся!
И вот, несмотря на обнадеживания батюшки, я беспокойно скитался по аллеям своего парка и сравнивал. Сравнивал прошедшее с настоящим, маршировку с сердцеведением. И дошел, наконец, до такого абсурда, что склонился на сторону маршировки…
Наконец однажды поздно вечером ко мне на мызу прибежал батюшка и возвестил: «Приехал!»
Явился вопрос об этикете: кому сделать первый шаг к сближению? И у той и у другой стороны права были почти одинаковы. У меня было богатое дворянское прошлое, но зато настоящее было плохо и выражалось единственно в готовности во всякое время следовать, куда глаза глядят. У «него», напротив, богатое настоящее (всемогущество, сердцеведение и пр.), но зато прошлое резюмировалось в одном слове: куроцап! Надо было устроить дело так, чтобы ничьему самолюбию не было нанесено обиды.
По всестороннем обсуждении мы остановились на следующем плане. И я и «он» сойдемся в доме батюшки. Завтра, в одиннадцать часов утра, я, как будто гуляя, зайду к батюшке, а в то же самое время, и «он», как будто гуляя, придет туда же. И, таким образом, произойдет приятный сюрприз.
Все именно так и случилось: без шума, без пререканий, легко, приятно. Батюшка был прав: наш становой не только не напоминал собой Савву Оглашенного, но даже и на станового почти совсем не походил. Это был человек лет тридцати, сухощавый, легкий на ногу, с манерами настолько добропорядочными, что, казалось, он даже понятия не имел о сквернословии. Мундирчик (совсем неожиданного для меня покроя) сидел на нем как вылитый, делая на талии ловкий перехват; мне показалось даже, что он стукнул шпорами, когда я вошел. По-французски он не говорил, но некоторые русские слова произносил в нос и этим вводил в заблуждение. Сверх того, он помадил волосы и, что всего трогательнее, назывался Милием Васильичем Грациановым.
Отнесся он ко мне отлично; выразился, что давно искал случая со мной познакомиться, и хотя условно, но все-таки признал за мной некоторые литературные заслуги. Но при этом, разумеется, слегка пожурил за то, что я в первое время моей литературной деятельности слишком обобщал понятие о куроцапстве и даже приписывал ему какое-то почти должностное значение.
– Быть может, и в настоящую минуту, видя меня, вы мысленно восклицаете: вот куроцап! – прибавил он, словно угадывая, что происходило в глубинах моего сердца.
Это было не в бровь, а прямо в глаз, так что если бы он вздумал дать своему вопросу дальнейшее развитие, то я, наверное бы, во всем сознался. Но он очень мило скользнул по моей душевной ране и перешел к другим предметам. Чрезвычайно умно и тонко отозвался о распоряжениях губернского начальства, но не раболепствовал заочно, а, напротив, заявил, что само начальство «от нас» раболепства не требует. Сообщил, что, по инициативе исправника, становые раз в месяц собираются в уездный город для обмена мыслями. На собраниях этих, разумеется, прежде всего читаются указы и предписания и обсуждаются меры к быстрому, точному и единообразному их выполнению, но, кроме того, возбуждаются и некоторые теоретические вопросы. Так, например, на последнем съезде рассуждалось о том, что могут означать слова закона: «со скоростью и строгостью», и было решено, что это значит: немедленно и не послабляючи. На будущем же съезде предполагают прочитать реферат о том, как следует понимать выражение: «по точному оного разумению».
– Вообще я полагаю так: мы, становые, обязываемся держаться не буквы, а смысла, – прибавил он, – и в этом именно заключается отличие нынешней становой системы от прежней. Свободы больше! свободы! Чтоб руки не были связаны! чтоб для мероприятий было больше простору! Воздуху! воздуху больше!
Разумеется, я только качал головою и моргал глазами в знак единомыслия, хотя, признаюсь, когда он, подобно народному трибуну, восклицал: «Свободы больше! свободы!» – я так и думал, что голос его дрогнет. Однако, он не только произнес эти слова совершенно безбоязненно, но как ни в чем не бывало продолжал свою profession de foi [4]. Заявил, что читает «Правительственный Вестник», как роман, и в восторге от «Сенатских Ведомостей» («только надо уметь владеть этим орудием», – сказал он), и затем несколько неожиданно перешел к перечислению своих губернских начальников и при каждом имени незаметно, но, несомненно, привставал на стуле, побуждая и нас делать подобное же движение. Потом опять перешел к своему личному положению и отозвался, что хотя он и маленький человек в служебной иерархии, но что и на маленьком месте можно небольшую пользу государству принести, как это уже и предусмотрено мудрой русской пословицей, гласящей: лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Что нынче, впрочем, различие между малыми и большими должностями мало-помалу стирается и все начинают уже понимать, что, в сущности, и большие чины и малые – все составляют одну семью.
– Конечно, покуда это еще идеал, – прибавил он скромно, – но первые шаги к осуществлению его уже сделаны. Не далее как неделю тому назад, встретил я на станции действительного статского советника Фарафонтьева, который прямо сказал мне: «Ты, брат, не смущайся тем, что ты только становой! все мы под Богом ходим!»







