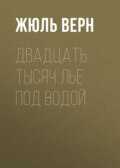Марко Вовчок
Институтка
XXVIII
Пошла я за старушкой, через двор, в хату.
– Вот, привела вам девушку, – говорит старуха, войдя в хату.
А в хате за столом сидит между другими Назар черноволосый и молодица хорошенькая, его жена, тут же. В печи пышет полымя, как в горниле; весело отсвечиваются белые стены, и божничок светится, завешенный шитым полотенцем, сухими цветами и травами разубранный. На полках мисы, миски и мисочки, зеленые, красные и желтые, словно драгоценные каменья красуются. И все в этой хате было весело, опрятно, все так и лоснилось: и связка мягкого льну на жерди, и черный кожух на деревянном колку, и плетеная люлька с ребенком.
– Просим до гурту, – говорят мне с приветом и поклонами.
– А может быть, со мною рядом такая королева сядет, а? – промолвил Назар.
– А разве вы самый красивый, дядя? – спрашиваю я его.
Глянула я кругом, ан тот парубок уж тут – смотрит на меня из угла… даже жарко мне сделалось.
– А то небось нет? – промолвил Назар. – Всмотрись ты в меня хорошенько: уж на что я хорош, на что пригож!
– Разве в потемках! – весело возразила молодица.
Славная была та бабенка, звали ее Катрей: белокурая, немножко курносая, глазки голубые, светленькие, а сама кругленькая, свеженькая, как яблочко, в красном очипке. Смешливая она была, на словах бойкая, а уж какая проворная: и говорит, и работает, и ребенка качает, и все разом; то у стола ее шитые рукава мелькают, то возле печки ее перстни поблескивают.
– Ну, ну! – говорит Назар. – Когда бы не галушки, я бы тебе отпел.
А тут как раз Катря поставила на стол миску с галушками.
Назар мигнул мне:
– Не грех тому хорошо поужинать, кто не обедал!
XXIX
Стали мы ужинать. Катря и говорит и шутит, а все сдается мне, как будто ее что-то беспокоит, как будто она грустит. Старушка сидит за столом тихонько, величаво, думу какую-то думает, только Назар шалит, да балагурит, да хохочет, зубами перед таганцом так и сверкает, а зубы у него, я уже сказала, как сметана. На того парубка я уже больше не смотрела.
– А что, моя пташечка, – спрашивает у меня старуха, – давно ты у молодой пани служишь?
– Как она собой хороша! – ввернула слово молодичка.
– Что в том толку, что хороша, – гаркнул Назар, – коли смотрит так, что даже молоко от ее взгляда киснет!
Старуха тяжело вздохнула:
– Полно тебе, Назар, полно.
– А наш пан такой приветливый, – заговорила опять молодица.
– Дай ему господи и жену под пару! – сказала старушка.
– Каково-то теперь нам будет? – промолвила молодичка, вздохнула и задумалась. – Каково-то будет? – повторила она тихо и поглядела на меня, словно глазами спрашивая.
А я молчу.
– Будет как господь даст, голубка, – говорит старуха.
– Ну, что будет, то будет, мы всё переживем, «перебудем», – вскрикнул Назар, – а теперь за галушки! Ты что, Прокоп, не идешь? Пани тебе в глаза бросилась, что ли? Или, может быть, эта королева?
И он кивнул на меня головой.
– Пускай та пани и во сне мне не привидится, – сказал он, садясь против меня. – Где родилась она, такая неприветная?
Тогда молодица ко мне обратилась:
– Девушка милая, скажи нам всю сущую правду по душе…
Она умолкла.
Все на меня смотрят пристально, и парубок с меня глаз не сводит. Когда бы не тот парубок, мне бы все ничего, а при нем и стыдно мне и краснею я, едва не плачу.
– Девушка, зла наша молодая пани? – спросила Катря.
– Недобрая, – говорю я ей.
– Господи милосердый! – вскрикнула она. – Чуяло мое сердце, чуяло… дитятко мое!
Бросилась она к люльке, наклонилась над ребенком:
– Того ль я надеялась, идучи вольная за господского? Она уже одним своим взглядом мое дитятко поедом поела.
И плачет она, плачет; слеза так и бежит за слезой.
– Не так черт страшен, каким его малюют, – отозвался Назар. – Чего пугаться? Осмотреться сперва надо.
А она тужит, а она рыдает, как будто уж и взаправду пани своим взглядом ребенка поела.
– Полно, голубушка, – уговаривает Катрю старушка. – Зачем нам так сильно тревожиться? Разве над нами нет господа милосердого?
Парубок хоть бы словечко вымолвил. Только куда я ни взгляну, всюду глазами с его глазами повстречаюсь.
XXX
Отужинавши, помолившись, бегу назад в дом, а сама следом за собою слышу:
– Доброй ночи, дивчино!
– И вам доброй ночи, – ответила я и вскочила в сени.
Вошла я в девичью – сердце мое бьется, бьется; думаю я, думаю, как это он впился в меня глазами; и пани моя тоже мне на ум приходит. Едва в хутор вступила, а уж всех опечалить успела! И зачем этот парубок ко мне ластится? Господи боже мой, какой он хороший!
Полный месяц стоит прямо передо мною:
Ой, місяцку-місяченьку,
Не світи нікому!.
Песня так меня и подмывает… Сама не знаю, чего моей душе хочется: того ли чтоб он опять отозвался под окошком, того ли чтоб не приходил.
XXXI
Проходит день, неделя, проходят месяцы, и полгода минуло. Кажется, в хуторе все и тихо и мирно; цветет хутор и зеленеет; а когда бы кто посмотрел, что в нем делалось! Люди и просыпались и спать ложились со слезами да с проклятиями. Все пригнула по-своему молодая пани, всем работу тяжкую, всем горе горькое придумала. Калеки несчастные, малые дети без дела не ходили: дети сад подметали, индеек пасли; калеки в огороде сидели, воробьев и других птиц пугали; и всю ту работу умела как-то пани приправлять укором да упреком, так что всякая работа казалась каторгою. Точно стоглазая она была: все видела, повсюду, как ящерица, по хутору шмыгала, и бог ее знает, что такое в ней сидело: только взглянет, бывало, точно рукою тебе сердце сожмет.
А соседние господа хвалят нашу пани, величают ее: «Вот хозяйка-то, вот умница! Нужды нет, что молоденькая, а нам бы всем у ней поучиться не худо».
Сперва люди на пана надеялись, да скоро и эту надежду бросили. Он был добрый и милостивый пан, да совсем плох, тряпкачеловек! Пробовал он жену уговаривать – да где! Потом уж он и намекнуть ни на что не смел, словно он и не видит ничего и не слышит; не было у него ни духу, ни силы. Сказано: добрый пан; не біє, не лає, та ніичим і не дбає. Как начнет пани падать в обморок, да стонать, да кричмя кричать, так он у ней и руки и ноги перецелует, и плачет, и сам людей бранит: «А, чтоб вас! Вот уморят мне моего друга!»
– Не будет из него пути, – говорит, бывало, Назар. – Я тотчас увидел, что он настоящий помазок, вот которым колеса подмазывают, еще тогда, как он Устину обедом накормил. Кабы мне такую жену, я бы в муравейник ее усадил: пускай бы там фыркала!
Скажет да и захохочет во всю хату. Такой уж человек был этот Назар: всё ему шутки. Кажется, на огне его жги, а он все-таки будет шутить.
А уж сколько слез Катря пролила! Где они только брались у нее? Схватит на руки ребенка, плачет, плачет, а потом и заголосит.
И Прокоп тосковать стал. Все о чем-то раздумывает и со мной не разговаривает.
– Что это вы так печальны? – говорю я ему – это было раз ввечеру, в сумерки. – Что вы так печальны?
Он схватил меня за руки, прижал к себе и поцеловал. Пока я опомнилась, он уже скрылся.
XXXII
Все наши люди похудели, словно завяли; только старушка по-прежнему величава, как и была. Как ни бранит ее, как ни кричит на нее пани, старушка не пугается, не теряется, выступает тихо, говорит спокойно, смотрит ясно своими ясными глазами. Сама не заметишь, бывало, как прижмешься к ней, вот как ребенок к родной матери прижимается, да и заплачешь.
– Не плачь, мое дитятко, не плачь, – скажет старушка потихоньку, ласковым голосом. – Пускай недобрые люди плачут, а ты пережди, вытерпи горечко. Неужто и вытерпеть нельзя?
Господи боже! Какое наше грустное и томное было житье! Не слыхать смеху, не слыхать голоса человеческого; ни одна живая душа к нам на двор не завернет, разве по делу; и так всякий боязно оглядывается, так спешит, словно из лесу от лютого зверя уходит.
Запоздала я как-то раз после ужина и бегу поскорей через двор. «Что это Прокоп ужинать не пришел?» – думаю я… Вдруг, смотрю, он передо мною, перерезал мне дорогу и не дает уйти.
– Устино, скажи мне всю правду: любишь ли ты меня?
Ушла бы я от него, но ноги меня не несут. Стою, горю; а он меня за руку, прижимает, обнимает к себе и все спрашивает: «Любишь?» – такой странный! Сели мы, поговорили, слюбились – и все беды наши забыли. Весела душа моя, и свет мил, и так все на свете хорошо мне, так прекрасно! Уж, стало быть, хорошо мне было, когда сама пани заметила.
– Что с тобой? – спрашивает она меня. – Отчего ты так раскраснелась, словно кто тебя поколотил? Или, может быть, украла ты что-нибудь?
XXXIII
Боже мой милостивый, как, бывало, я вечера темного, тихого дожидаюсь! Прикажет мне пани идти ужинать, а Прокоп уже ждет меня. Встретит меня; мы постоим вдвоем, погорюем вместе; днем мы хотя и встретимся – так только переглянемся, словечка друг другу не промолвим, разойдемся.
– На горе вы слюбились! – говорит нам, бывало, Катря.
– Ну, разумна же ты, душа моя, хотя бы бесу под стать! – подтрунивает над нею Назар. – Если бы теперь тебе пришлось в другой раз меня полюбить, ты бы себе все пальчики облизала.
– Любовь у меня теперь на уме, как же! – ответит она. – Мне они оба теперь сердце сушат, как подумаю да рассужу.
– Что это вы девушку смущаете да пугаете! – заметит старушка. – Коли уж полюбила, пускай любит! Верно уж ей такая судьба выпала!
XXXIV
А пани наша что дальше, все злее становится, все лютее. Опоздаю ли я, замешкаюсь ли немного, «Где ты была?» – кричит она, и встречает меня лихая беда на панском пороге. Сперва я очень тужила, а потом мне все это не в диковинку стало, всякое руганье нипочем. Недаром сказано: «Встань, беда, да и не ложись». Бывало, пока она меня бранит, не под силу мне терпеть, слезы у меня польются ручьем, а наплачусь, оботру слезы – и опять я весела, и опять я играть и шутить готова, и коса у меня заплетена мелко, и сорочка на мне чистая. Никому про свое горе и слова не шепну. Какая мне в том польза! Только обиду свою тяжкую припоминать. Зато Прокоп ходит как темная ночь, и уж тогда ни еда, ни питье, ничто ему на ум нейдет.
Господи милосердый, и свое горе, и чужое горе!.. Не знаешь, что делать, с чего начать! У Катри ребенок заболел, а тут обед господам сготовь, ужин свари, огород вскопай, засей; а пани еще кричит:
– Не работаешь, дрянная! Вот я научу тебя работать!
По целым ночам Катря не спит, сидит над ребенком. Настанет день – она за работу; днем старуха за ребенком ухаживает, утешает Катрю: то ребенка к ней вынесет, то сама к ней выйдет, расскажет: утихла малютка или спит малютка. И так она, словно благодать божия, пособляет, неутомимая, неусыпная.
– Что это вы так, Катря, трудитесь без отдыха? – говорю я ей.
– Буду работать, работать, пока сил хватит (а впалые глаза у ней так и горят), – может, угожу, может, умилостивлю!
Но не угодила и не умилостивила: работала она днем и ночи не спала, пока не забывалась мертвым сном возле люльки. Очнулась… к ребенку… а ребенок уже на божьей дороге. Только взглянула на него бедная мать, только схватила его к сердцу, а он уже преставился…
Убивалась Катря, и мучилась, и радовалась.
– Пускай же, мое дитя, мое милое, дорогое, будет ангелочком божиим: горя не будет знать, мое родненькое!.. – А потом вдруг заголосит: – А кто ж ко мне рученьки протянет, кто меня обрадует на сем свете? Дитя мое! Покинула ты меня, моя доченька…
Назар как будто и ничего, утешает свою Катрю, молодой ее век ей напоминает, а у самого уже зычный голос гораздо тише сделался, и горюет он ото всех тайком.
С той печали совсем ослабела, извелась Катря. Не то что работать – и ходить она не в силах; а пани все свое:
– Что ты не работаешь? Я тебе то, я тебе это!
– Теперь я уж не боюсь вас! – ответила Катря. – Хоть живьем съешьте меня теперь!
Ну и задала же ей пани!..
– Прокоп, – говорю я ему, – что же с нами-то будет?
– Устино, сердце мое, связала ты мне руки!