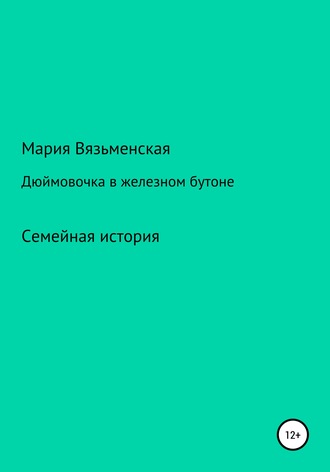
Мария Моисеевна Вязьменская
Дюймовочка в железном бутоне
Отступление: история про чернику
Однажды тётка купила ведро черники, чтобы вволю поесть и сварить варенье. За ягодами нужно идти в лес, собирать внаклонку целый день, а тут принесли тебе в дом, заплатил за них, наслаждайся и ешь, хочешь, с сахаром, с молоком, хочешь, просто так. Мила, тётка, Андрей, бабушка и я сидели во дворе вокруг большого стола, перебирали рассыпанную в центре чернику и клевали ее по ягодке. Приехавший после экзаменов Шурка то ли валялся на раскладушке, то ли помогал дяде Вите под машиной, но за столом его не было. Тётка споро и чисто нагребла две тарелки, поставила одну передо мной, другую перед Андреем.
– Манюня, тебе с чем? – Тётке нравилось называть меня прозвищем дрессированной таксы клоуна Карандаша.
– С молоком или сахаром?
– С молоком и сахаром, – ответила за меня бабушка.
– Манюнька сама не знает, – засмеялся Андрюшка, – не умеет говорить! Ха-ха-ха!!!
– С молоком и сахаром, – твердо сказала я. – Бабушка знает, как я люблю.
– А ты будешь? – Спросила тётка Милу.
– Не-а! – Ответила сестра. – Я потом. Когда кончим.
Андрей хлюпал молоком и, не закрывая рта, жевал чернику.
– Вотерлифт, – произнесла Мила, скатывая чистые ягоды в тарелку, а листья и мелкий лесной мусор в берестяной туесок. Андрюшка не понял сказанного, он же не жил с нашим папой.
– Тише ешь, не чавкай! Тебе же внятно говорят, – объяснил младшему брату подошедший Шурик. Он-то не понаслышке был знаком с дяди Моминым вотерлифтом.
Андрей приподнял голову от тарелки:
– Чего пристал! Тебя не спросили!
– Противно ешь, вот чего! – Ответил Шурка.
Мы с Андрюшкой доели чернику, и тётка унесла тарелки.
– Нечего валандаться! – Взглянула она на меня, – поели, теперь помогайте перебрать остальное!
Я перекатывала чистые ягоды в сторону Милы, а мусор сгребала в ладошку, чтобы высыпать в туесок. Андрей, нехотя, выбрал несколько ягод из середины кучи, посмотрел, куда бы их деть, и, ухмыльнувшись, засунул в рот. Все промолчали. Тогда он руками провёл в чернике две борозды от себя к центру, и получившийся сектор провозгласил своим.
– Сделаю это и больше не буду! – Объявил он. И опять никто не прокомментировал его заявление.
Бабушка быстро перебирала ягоды, отделяя их от мусора. Иногда какую-нибудь черничину она вкидывала в рот.
– Вкусная, – удовлетворенно заключала она или, – спелая.
Все молчали. Вдруг она, озорно улыбнувшись, схватила черничину из владений Андрюшки и положила на язык.
– Эх, хороша ягодка у Андрюши! – Подзадорила она внука.
– Моё! – Неожиданно взревел он. – Не цапай мои ягоды, старая ведьма!
Шурка враз оказался у него за спиной. За шиворот выдернул из-за стола:
– Что ты сказал, змеёныш? А ну, проси прощения у бабушки!
– Не буду! – Заорал Андрюшка, – чего она ворует мои ягоды? Сама не платила, а ест! Мама мне их купила, а они тут все объедаются!
Шурка, до того побелевший от ярости, вдруг неожиданно повеселел. Хохотнул коротким знакомым смешком.
– Тебе, говоришь, купила? А ну, мать, бабушка, Мила с Машей, брысь из-за стола! Садись, Андрюха! Вот. Ешь. Твоя ягода. Вся твоя! Тебе же куплено! Для тебя одного плачено! Садись, ешь! Пока все! до последней ягодки! не съешь! не выпушу тебя отсюда, – он говорил внятно и с расстановкой.
– Шурик, оставь его, – попробовала вмешаться тётка, – ребёнок не понимает, что говорит. Пусти его. Он больше не будет!
– Иди, мать, отсюда, иди! Сказал же, – жёстко улыбаясь, потребовал Шурка.
– Сейчас он поймёт. Повзрослеет. Оставь ягоды, мать! Он их сейчас есть будет. В другой раз варенье сваришь!
– Не бу-у-у-у-ду!!! – Почти завизжал Андрюха.
– Будешь! Куда ты денешься, – вытащил Шурка ремень.
– Пойдём, пойдём отсюда, – потянула бабушка меня в дом, – пусть их.
До поздней ночи Андрей сидел за столом. Шурка с ремнём караулил рядом, не давал приблизиться матери. Мы тоже не подходили. Мне казалось, я вижу, как давится черникой Андрюшка, как его рвёт ею, как мать уносит его в комнату, как старший брат идёт следом… Было совсем темно.
Продолжение главы: бабушка живет с нами
Бабушка меня любила, а Андрюшку нет – с ним никто не мог совладать. А он невзлюбил меня.
Во-первых, мы редко встречались, друг друга почти не знали – до прошлого года Мудровы жили в Германии, теперь мы впервые оказались с ним вместе на даче.
Во-вторых, его мать, тётя Наташа, откровенно меня не любила, не утруждаясь это скрывать: я была тощей, болезненной, с громадными глазами и острым носом на худеньком лице и не вызывала у нее ни малейшей симпатии.
– Ты, Манюня, прямо Кощей бессмертный, – смеялась она, а Андрюха вторил,
– Кикимора болотная! Маню-ю-нь-нька!!!!
Однажды он подстерёг меня и, оглянувшись, нет ли кого поблизости, выпалил торжествующе и злорадно: «Твоя мать сгнила! Ее черви съели!»
Во мне замерло сердце, остановилось дыхание, исчезли мысли, и мир замолчал вокруг. Скажи он это через год, я бы заплакала безутешными слезами осознающего сиротство ребёнка, как плакала на даче в ТЭПовском детском саду, когда один мальчишка, разозлившись, что я выбрала в пару не его, а другого семилетнего кавалера, выпалил в отместку страшные слова о моей умершей маме. Я тогда заметалась в отчаянии, зарыдала, давясь и захлёбываясь, и дети испуганным выводком застыли кругом.
– Ах, ты!!! – В исступлении закричала воспитательница, которая и меня-то, девятилетнюю, взяла отдыхать с детсадовской мелюзгой, оттого что до боли сочувствовала Моисею Борисовичу, оставшемуся вдовцом с тремя дочками на руках.
– Снимай трусы, – неистовствовала она. – Снимай, говорят! Становись голым перед всей группой, жестокосердная тварь!
И отчаянный плач бедного Толика, заглушивший мои рыдания. Бедолага не мог предвидеть, что сказанное им вызовет такую бурю.
– Я не буду, я больше не буду! – Взывал он, вцепившись в резинку синеньких трусиков.
– Проси у Маши прощения! Машу проси! – Не унималась воспитательница.
И я, потрясённая гражданской казнью, ожидающей мальчика, не задумываясь, простила незадачливого поклонника:
– Пожалуйста, не наказывайте Толика!
В Усть-Нарве я до конца не сознавала того, что стряслось с мамой и всей нашей семьёй. Злобное Андрюшкино откровение привело меня в замешательство, но вместе с тем предлагало грубое, отвратительное, но реальное объяснение произошедшего.
Глава четвертая: мамы больше нет
Мама заболела в начале февраля. Стирала белье в прачечной и почувствовала себя дурно. Пар, духота, воздуха мало. На улицу выбежать не успела, потеряла сознание прямо у чана с бельём, счастье, не одна стирала, с соседками, они и вызвали «Скорую помощь». Привезли ее в обычную городскую больницу, где поставили страшный диагноз: кровоизлияние в мозг. Заболевание почти неизлечимое.
Она пролежала около месяца. Ей предписали покой, ограничили в жирах, и постепенно она начала оправляться от случившегося инсульта. Вернулась речь, способность управлять рукой и ногой, парализованными вначале, и робко проглянула надежда, может, все обойдется?
Кто-то посоветовал папе перевести жену из обычной больницы в ГИДУВ, где работают, мол, профессора и светила, уж они-то в два счета вылечат Таню! Папа нашел связи, протекцию, без которой никто никогда не стал бы переводить больную из одной клиники в другую, и в начале марта маму на «Скорой помощи» повезли в ГИДУВ. В дороге мужики-изыскатели держали на весу носилки с больной, чтобы маму случайно не тряхнуло в машине. Врачи опасались, что резкое торможение или удар могут спровоцировать повторное кровоизлияние.
В институте отца обнадёжили:
– Динамика восстановления у вашей жены неплохая, пожалуй, стоит разрешить ей потихонечку садиться в постели… – И знаете, что? Принесите шоколадных конфет и сливочного масла, попробуем понемногу вводить в рацион жиры. Только в небольшом количестве!
– Хорошо, что Таню перевели в ГИДУВ! – Радовался отец дома, – теперь она пойдёт на поправку! Знаете, какие врачи там работают?
Мама тоже приободрилась, попросила сфотографировать дочерей, соскучилась, давно не видела девочек – в больницу детей приводить не разрешалось. В понедельник 19 марта папа собирался побеседовать с главным врачом отделения и надеялся заглянуть к жене, дабы передать ей конфеты и сливочное масло.
– Купи маме трюфели, – велел он накануне Миле. – Если ей разрешили шоколадные конфеты, пусть ест, которые любит. И ещё сто грамм сливочного масла. Спроси вологодское, оно лучше.
Папа ждал в коридоре уже почти час.
– Главный врач занят, – бросила дежурная медсестра и унеслась куда-то из отделения. За ней пробежал молодой доктор, с которым отец говорил, когда Таню перевезли в ГИДУВ.
– Потом, потом, – пробормотал он на ходу, как только папа попытался остановить его.
– Наверно, дежурит, и что-то случилось, – отметил отец про себя.
Ни врачей, ни сестёр в коридоре не было. Он быстро прошёл до Таниной палаты
и заглянул в нее. Кровать жены была пуста.
– Ее повезли на рентген, – ответила одна из соседок.
Он опять вышел в коридор и столкнулся с пробегавшим давеча молодым врачом.
– Здесь нельзя находиться, вернитесь к кабинету, – неодобрительно буркнул тот.
– Я хотел заглянуть к жене, а она на рентгене, – извиняющимся тоном произнёс отец. Доктор странно взглянул на него.
– Подождите там, – мотнул он лицом в противоположную сторону, – к вам подойдут.
Оба, молча, одновременно подошли к кабинету, когда появился главврач отделения, к которому папа пришёл на беседу.
– Вы? муж Бочарниковой. – Спросил он отца, ставя вопросительный знак вслед за местоимением. Конец фразы – муж Бочарниковой – прозвучал утвердительно. Отец кивнул. Ему стало жарко, хотя пальто и ушанку он давно снял и держал в руках.
– Простите, мы ничем не могли помочь, – наклонил голову главный врач. Молодой дежурный, так и не успевший отойти, неловко отвернулся.
– Я не понял, что вы хотите сказать, – произнёс отец.
Потом он будет пересказывать случившееся на разные лады. Иногда в его рассказе заблестит новая, прежде не вспоминаемая деталь, потом она выдохнется, истает, возникнет другая. Лишь суть рассказа останется неизменной.
– Разумеется, я все понял, когда они побежали куда-то. И Тани в палате не было… Но главврач не сказал мне прямо, и я заставил его повторить, – говорил отец.
– Примите наши соболезнования, – главный врач посмотрел отцу в глаза. – Ваша жена скончалась. Мы ничем не могли помочь.
– Почему? Ведь ей стало лучше. Вчера и третьего дня ей разрешили сидеть. Сказали принести сливочное масло. Я говорил с лечащим врачом, она считала, что кризис позади, и жена выкарабкается. Ей было много лучше, – убеждал главврача отец.
– Вероятно, повторное кровоизлияние. Слишком рано разрешили садиться. Сегодня ее повезли на рентген головы. Во время сеанса она потеряла сознание и умерла, не приходя в него.
Папа ушёл из больницы, пешком вернулся в ТЭП. Оглушённый и чёрный пришёл в свой отдел, где все знали его жену – войну провели вместе, восстанавливали Криворожье, работали в Новосибирске, в садоводстве сажали яблони на соседних участках.
– Таня умерла, – сказал он. – Не знаю, как сообщить дома.
Кто-то из женщин всплеснул руками, кто-то упал на стул, зажав ладонью рот.
– Мома, как ты? Что надо сделать? Моисей Борисович!
– Поеду к Таниной сестре. В Гавань. Надо тёщу подготовить, – сказал он друзьям-изыскателям.
В школе чувствовалось приближение весенних каникул. Лариса Ксенофонтовна проверила контрольные работы по чистописанию и арифметике, послушала, кто как читает, поставила четвертные оценки по всем предметам, и 19 марта повела нас с другими первыми классами на утренний спектакль в Большой кукольный театр на улицу Некрасова. Давали «Карлик-нос» по сказке Гауфа.
Мне понравилось чрезвычайно! По дороге из школы я приставала к Миле с рассказами про злую волшебницу, пришедшую на базар купить зелень у бедной женщины; про белок, разъезжавших по паркету в обуви из ореховых скорлупок; про Якоба, превратившегося в карлика с длинным противным носом; про обжору-герцога, который требовал новых и новых кушаний; про заколдованную гусыню, которая помогла Якобу снова стать симпатичным юношей, а он ей – милой девушкой. Дома я ещё раз пересказала спектакль бабушке, а вечером, полная театральных впечатлений, быстро заснула, наверное, часов в восемь. Папы не было, он частенько приходил домой поздно, во впускные дни навещал жену, а то коротал вечера у друзей, живших недалеко от нас.
Проснулась я от страшного вопля Милы.
– Ма-а-ма-а-а!!!! Ма-а моч-ка-а-а!!! – Надрывно кричала сестра. – Ма-а-а-ма-а-а!!! Ма-а-моч-ка-а-а-!!!
Папа крепко обнимал ее, пытаясь прижать к груди разверстый двенадцатилетний рот, но Мила выпрастывала лицо из его объятий и продолжала кричать, задыхаясь от рыданий и слез. Я села в кровати и тоже заплакала. С мамой случилось плохое – подавала мне Мила горькую весть. Никто не смог бы верней передать мне, семилетней, всю меру того непоправимого, что случилось с нами, чем нескончаемый Милин плач.
Папы-мамина комната была полна народу – женщины с папиной работы сидели на стульях и кроватях; жена папиного друга обхватила нашу оцепеневшую Наташу; тётка с тётей Любой хлопотали над бабушкой, лежавшей без чувств; дядя Тиша с дядей Витей неслышно переговаривались возле двери в уборную…
Папа метнулся от Милиной кровати к моей, схватил меня под мышки, почти выдернув из одеяла:
– Мама умерла, Машенька. Мамы больше нет!
Маму хоронили через несколько дней на Богословском кладбище. Папа не хотел, чтобы дочери видели мать в гробу, и на кладбище нас не взяли, даже Наташу. Мы втроём оставались дома. Были ещё какие-то женщины из папиного отдела, ходили из кухни в комнату и обратно, готовили еду, накрывали на стол. Помню молчание, тишину, ожидание и негромкие хлопоты взрослых.
Все вернулись замёрзшие, с холодными руками и серыми кладбищенскими лицами. Садились за стол, на кровать, на какие-то доски…
После похорон бабушка не ночевала на Марата, а уехала к младшей дочери в Гавань. Было поздно, когда я внезапно проснулась. Наташа и Мила спали в своих кроватях, а перед печкой, стоявшей в углу детской комнаты, на низенькой скамеечке спиной ко мне сидел папа. Он сидел в ореоле света от горящих поленьев, наклонившись вперёд и держа голову упирающимися в колени руками. Его плечи вздрагивали, из глубины тела изредка вырывались странные скомканные звуки. Повидав в последние дни множество слез и рыданий, я поняла, что мой насмешливый и самоуверенный папа плачет. На мою подушку падала часть его тени, я не посмела сесть, будто подглядывала что-то запретное, и, не вставая, в голос заплакала сама. Папа с мокрым лицом повернулся ко мне.
– Что, Машук, не спишь? Почему ты плачешь? – Пересел он на мою постель, быстро вытирая глаза.
– Потому что ты плачешь, – ответила я.
– Я больше не буду, – отозвался он, потом помолчал немного, – давай дадим друг другу слово никогда не плакать! Договорились? Я обещаю тебе, что не буду плакать, а ты пообещай мне. Ну, как, даёшь слово?
Я согласно кивнула.
– Вот и хорошо. Спи.
Я закрыла глаза. Папа остался сидеть рядом.
Тот разговор у открытой печки, если эти несколько фраз можно назвать разговором, оказался удивительно значимым в наших судьбах, как будто обещание не плакать о жене и матери, данное отцом и дочерью подле спящих дочерей-сестёр, стало своего рода связующей клятвой, которую мы оба соблюдали в течение многих лет. Со времени маминой смерти и папиных слез, подсмотренных мною, начал сбываться давнишний сон, когда покойная бабушка Муся-Хая предрекла сыну, что третий ребёнок займёт особое место в его жизни. В сорок шесть лет папа остался один с дочерями на руках, но Наташа оканчивала школу и считалась вполне взрослой девушкой; Миле было двенадцать, с ее крепким здоровьем и лёгким характером, верилось, что она вот-вот дорастёт до юности и не пропадёт без мамы; я же, мало того, что была младшей из трех, но, как родилась слабенькой и рахитичной, так и продолжала проваливаться то в одну, то в другую болезнь всю свою семилетнюю жизнь. Пока была мама, я сидела кенгуренком в ее кармане, она выхаживала, вынянчивала меня, а теперь эта тяжкая ноша досталась отцу в наследство и задала вектор его дальнейшей жизни.
Глава пятая: интернат
Бабушка прожила с нами весну и лето, а в сентябре засобиралась в Москву. Первого сентября мы с Милой, как обычно, пошли в родную 212-ю школу. Я во второй, она в шестой класс. Папа хлопотал, чтобы определить нас с сестрой в интернат.
По странному совпадению интернаты – закрытые учебные заведения, своего рода пансионы, были созданы именно в 1956 году, когда оглушенный бедой отец, не совсем понимал, что делать с младшими дочерями. Раньше в СССР существовали только детские дома, где жили дети, не имевшие обоих родителей. Интернаты во многом походили на них: воспитанники тоже носили одинаковую одежду; спали в больших общих спальнях – девочки и мальчики отдельно; ели в столовой; строем ходили в баню; больных детей помещали в изолятор, где за ними присматривала медсестра и так далее. Интернат отличался от детского дома только тем, что у здешних воспитанников имелась семья и родные.
Когда я поступила в интернат номер семь, в нем учились дети сорок второго – сорок девятого годов рождения, и у большинства из них не было отцов – они погибли на войне или, вернувшись, умерли от ран и контузий. Много реже встречались воспитанники, потерявшие матерей, как мы с Милой.
В сентябре того года ленинградские интернаты были полностью укомплектованы, однако в Городском отделе народного образования служили преимущественно женщины, которые, как правило, сочувствуют овдовевшим мужчинам. Инспекторша, курировавшая интернаты, прониклась ситуацией Моисея Борисовича и при первой возможности малолетних девочек Вязьменских определили в интернат, считавшийся лучшим в городе.
Место для меня освободилось после первой четверти, по-видимому, предыдущая девочка из второго класса не выдержала недельных заточений, и ее забрали домой.
Холодным морозным днём 10 ноября папа привез меня в интернат, в котором я прожила два с половиной года. Однажды я попыталась написать об интернате повесть, которая начиналась так…
В трамвае было холодно. «Хорошо, что Маше купили это славненькое пальтишко с пушистым мехом, действительно, похоже, что соболь, неужели настоящий?» – в очередной раз удивился Моисей Борисович.
У завода Козицкого все пассажиры вышли. Моисей Борисович и девочки остались одни, только кондукторша на своем сиденье пересчитывала деньги замёрзшими руками в митенках. Трамвай описал круг и остановился.
– Кольцо, – провозгласила кондукторша, – вам выходить, вон ваш интернат, не спутаешь.
Интернат находился в самой дальней части острова Декабристов – Голодая, как неизменно называл его Моисей Борисович – между заливом и Смоленским кладбищем. Внушительное серое здание одиноко возвышалось над полуплощадью-полупустырём, на котором образовывали круг трамвайные рельсы и неприкаянно торчала будка диспетчера. От той части пустыря, что походила на площадь, вдаль уходила улица, но не с домами, а с дровяными складами за глухими заборами и какими-то рабочими строениями.
– Вон он, интернат, – Моисей Борисович оглянулся на Машу. – Приехали…
– Как я тебе завидую, – пропела, обнимая сестру Милочка, – счастливая ты, Махрюта!
Моисей Борисович улыбнулся, но тут же отвёл глаза, Милочка была их с
Таней любимицей, но теперь он стеснялся этого и старался следить за собой.
Дверь интерната оказалась запертой, и Моисей Борисович постучал несколько раз. Никто не выходил.
– Тут звонок, папа! – Милочка зажала варежку зубами и нажала на неприметную кнопку долгим настойчивым движением. Звонок задребезжал где-то внутри едва узнаваемым звуком.
– Уроки сейчас, вот и не открывают. Маргарита Владимировна велела привезти Машу к десяти. Сколько сейчас? – Моисей Борисович нервничал и суетился в несвойственной ему манере.
Женщина в чем-то зелёно-жёлтом посмотрела из окна второго этажа, махнула рукой, и сквозь двойные стекла входной двери замелькал ее приближающийся силуэт. Дверь открылась. Моисей Борисович и девочки вошли внутрь, неловко столпились внизу лестницы.
Встретившая их женщина была невысокого роста с приятным миловидным лицом, похожим на свежеиспечённую сдобную булочку, и чёрными блестящими волосами, заплетёнными в толстую косу, уложенную венчиком вкруг головы.
– Здравствуйте… – голос Моисея Борисовича оставлял зазор для имени гостеприимной женщины, умело подхватившей приветствие озабоченного родителя, – Ада Арнольдовна, воспитательница второго класса.
– Очень рад знакомству. Очень рад. Тут вещи вашей воспитанницы, – Моисей Борисович старался улыбаться своей, как он шутил, обольстивой улыбкой, подвигая воспитательнице саквояж с Машиным скарбом.
– Ребёнку ничего не нужно. Ей все выдадут. Маргарита Владимировна должна была предупредить вас.
– Да-да, конечно. Я просто думал, что вначале…
– Дети на всем готовом. Кто из них поступает к нам? – Женщина кивнула в сторону девочек, но смотрела на одного Моисея Борисовича, улыбаясь ему широким сдобным лицом. Моисей Борисович неудачно подтолкнул Машу вперёд, которая чуть не упала.
– Папа! Честное слово! – Наташа руками удержала сестру и прижала ее к себе.
Маша подняла глаза и взглянула на женщину, похожую на большую, истекающую сладким соком, жёлтую, спелую грушу, над которой деловито жужжал пчелиный рой. Маша испуганно оглянулась на родных.
– Это ты – Маша? Пойдём, переоденешься, я отведу тебя в класс. – Произнесла женщина.
– Вы, папочка, пройдите в канцелярию. Нужно расписаться, что сдали ребёнка нам, – не переставая улыбаться, женщина повернулась и начала подниматься по лестнице.
– Нюра, запри дверь за родственниками, я поведу ребёнка в класс, —
распорядилась она появившейся нянечке.
Маша не успела поцеловать ни папу, ни Наташу, ни Милочку – папа энергично замахал рукой, иди, мол, иди, и Маша послушно поплелась за жёлтой грушей в зелёной вязаной кофте.
Ада Арнольдовна открыла дверь второго класса, пропуская Машу вперёд. Учительница что-то писала на доске. Дети встали, приветствуя воспитательницу.
– Здравствуйте, Нина Николавна, – кивнула Ада Арнольдовна учительнице.
– Садитесь, дети. Я хочу познакомить вас с новой одноклассницей. Маша Вязьменская – круглая отличница и, надеюсь, будет служить вам примером. Куда ей сесть, Нина Николавна? – Повернулась она к учительнице.
– Садись здесь, Маша, с Борей Марьяловым, – Нина Николаевна указала Маше на третью парту в средней колонке, за которой сидел стриженый мальчик с чёлочкой.
– Правда, что ли? – Пихнул он Машу под партой, когда та села.
– Что правда? – не поняла она.
– Что ты круглая, – уточнил Марьялов. – Списывать даёшь?
– Даю, – обречённо ответила Маша.
После уроков Машу позвали к кастелянше и выдали темно-зеленое зимнее пальто с воротником из чёрного кролика, три платья, нарядное и два повседневных, школьную форму и остальную интернатскую одежду. После школьных занятий воспитанницы переодевались во фланелевые платья, сшитые из блёклого материала в мелкий рисунок, с обязательным поясом на талии. Ткань, по-видимому, подбирали специально, чтобы пятна и грязь терялись в ее невзрачных разводах и становились частью узора.
Маше досталась средняя из трех кроватей, разделенных тумбочками, в торце огромного дортуара. Недавно оштукатуренная стена делила дортуар пополам – в одной половине была спальня девочек Машиного класса, в другой, как в зеркальном отображении, стояли такие же пятнадцать кроватей третьеклассниц. Окна обеих спален выходили на пустырь с трамвайным кольцом. По вечерам кто-нибудь из воспитанниц непременно сидел на банкетке возле окна – залезать на подоконники строжайше запрещалось – и смотрел, как уходят в город почти пустые трамваи.
До и после ужина Ада Арнольдовна приходила в спальню к девочкам и учила их вышивать. Девочки садились вокруг большой полотняной скатерти, по краю которой были выдерганы поперечные нити. Некоторые воспитанницы зацепляли иголками снопики продольных нитей и превращали их в мережковую дорожку. Другие вышивали гладью нанесённый на скатерть рисунок, изображавший гирлянду анютиных глазок, любимых цветов воспитательницы.
Улыбаясь Маше сахарными зубами, Ада Арнольдовна на отдельной салфетке с такими же анютиными глазками показала, как вышивают стебельчатым швом. Вдевать нитку в иголку Маша умела, не раз помогала маме и бабушке, но разноцветное мулине видела впервые, и яркие весёлые нитки восхитили ее. Ада Арнольдовна протянула голубой моток, и Маша принялась старательно наносить стежки по контуру рисунка.
– Славно у тебя получается, – Ада Арнольдовна приблизила Машину салфетку к глазам, – думаю, вам стоит поменяться местами с Люсей Александровой. Смотри, Люся, как Маша аккуратно делает стежки, а ты только рвёшь и портишь. Возьми Машину салфетку и уступи ей место возле скатерти. Садись, Маша, с девочками.
Крупная мосластая Люся Александрова исподлобья оглядела Машу и нехотя встала со своего места. Маша села рядом с рыжеволосой, конопатой девочкой, ловко покрывающей гладью фиолетовый лепесток цветка.
– Ада Арнольдовна, давайте опять рассказывать истории. Чья очередь? – Обратилась рыженькая соседка к воспитательнице.
– Ты, Ира, сама расскажи что-нибудь, а то только любишь слушать других.
– Пусть новенькая расскажет, – Ира выразительно взглянула на пересаженную подружку.
– Маша, ты знаешь какую-нибудь историю? – Вопросительно улыбнулась Ада Арнольдовна.
– Какую историю? – Не поняла Маша.
– Сказку или историю можешь рассказать? – Уточнила воспитательница.
– Ладно, я расскажу про больную кикимору, – легко согласилась Маша.
Как она решилась рассказать незнакомым девочкам про маленькое уютное болотце, где за большой корягой на тёплой кочке жила пожилая кикимора, у которой разболелся зуб, Маша ни за что не смогла бы объяснить. Ее понесло, как называла Машины импровизации старшая сестра. Маша то шепелявила, как ополоумевшая от боли кикимора, то хрипло хихикала, как злорадствующая над ней баба Яга, то бурчала, как пришедший на помощь леший.
Некоторые из девочек застыли с иголками в руках, глядя на разошедшуюся рассказчицу.
– Леший протянул кикиморе больной зуб и сказал: «Посади в болотную кочку, вырастет тебе куст с зубами про запас», – закончила Маша.
– Где ты слышала эту сказку? – Осторожно поинтересовалась воспитательница.
– Нигде, я ее только что придумала, – беспечно ответила девочка.
– Вот это да! – Протянула конопатая Ира. – А ещё про что можешь?
– Не знаю, про что хотите. Скажи, про что, я попробую сочинить.
– Хватит, хватит про кикимор и остальное. Скоро отбой, пора готовиться ко сну, – остановила Ада Арнольдовна.
Скатерть сложили, нитки убрали в большую коробку, воспитательница вышла из спальни.
– Не забудьте почистить зубы, – сказала она напоследок.
Маша разделась и залезла под одеяло одной из первых. Ей было холодно, немного знобило. Ада Арнольдовна вернулась, когда девочки лежали в постелях.
– Ты умеешь заплетать косы? – Подошла она к новенькой.
– Нет, дома мне заплетала Мила или Наташа иногда, – Маша смотрела на воспитательницу огромными глазищами.
– Сёстры?
Маша кивнула.
– Завтра я сама причешу тебя, а потом мы назначим тебе шефом старшую девочку. Спокойной ночи! – Воспитательница выключила свет и вышла из дортуара.
– Новенькая – жидовка и лупоглазая кикимора! – Раздался ехидный голос в углу, где стояли кровати Люси Александровой и конопатой Иры. Девочки засмеялись.
– Ладно, кикимора, расскажи нам ещё что-нибудь. Правда, что у тебя мать умерла? – Спросила, кажется, Александрова.
Маша засунула в рот угол подушки и ничего не ответила.
– Оставь ее, Люська. Пусть спит. Сегодня Ада Арнольдовна дежурит, – произнёс голос рыжей Иры.
Первую неделю пришлось провести в интернатском лазарете. То ли стресс новой жизни повлиял на некрепкую иммунную систему, то ли затаившийся вирус за несколько дней до того начал обустраиваться в моем организме. На второй день учёбы поднялась температура, разболелось горло, и учительница отрядила какую-то девочку довести меня до медсанчасти, где, как в обычной поликлинике, были врач, медсестра и нянечка.
– Девочка останется здесь. – Резюмировала доктор, прослушав мои легкие и осмотрев горло. – Сильный тонзиллит при удалённых гландах. Пусть полежит несколько дней. Скажите воспитателям, что ее можно навещать.
Я лежала одна в большой просторной палате, рассчитанной человек на десять, и бессильно плакала в тишине. Ни мамы, ни бабушки, ни Наташи с Милой.
После ужина Ада Арнольдовна привела девочку, чья кровать в дортуаре стояла подле моей.


