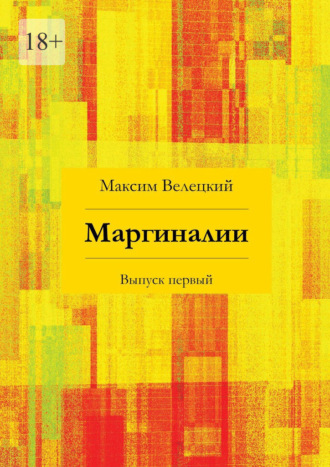
Максим Велецкий
Маргиналии. Выпуск первый
3. К Сунь-Цзы
«Будучи сильным, кажись слабым. Будучи храбрым, кажись трусом. Обладая порядком, кажись рассеянным. Будучи наполненным, кажись пустым. В мудрости кажись глупым. Обладая многим, делай вид, будто у тебя ничего нет. Наступая, делай вид, что отступаешь. Двигаясь быстро, кажись медленным».
Сравним последнюю фразу с девизом английского (социалистического) Фабианского общества:
«В нужный момент ты должен ждать, как терпеливо ждал Фабий, когда воевал против Ганнибала, хотя многие осуждали его промедление; но когда придет время, ты должен ударить сильно, как Фабий, или твое ожидание будет напрасным и бесплодным». [АИ 3]
Фабианское общество имело прямое отношение к уничтожению Российской империи и апологии сталинских репрессий – собственно, эта лавочка как раз и создавалась для уничтожения врагов британской короны и насаждения социализма по всему миру. И в нашем случае со своей задачей фабианцы, увы, справились. Но кто у нас знает про фабианцев, кроме правых конспирологов?
Зато все знают про Госдеп, «Голос Америки», «Радио Свобода», Фонд Сороса и другие американские конторки. И если послушать наших местных государственных патриотов, то покажется очевидным, что у нас не существует иных врагов кроме США – и иных агентов влияния кроме американских. Все остальные (в первую очередь, европейцы) просто пляшут под дудку США, а так-то они хорошие, они не сами, их заставляют. Европейцы ведь сами мухи не обидят – и если бы не злокозненная Америка, у нас с Западной Европой была бы любовь-морковь.
Сему взгляду есть две причины. Во-первых, западноевропейские центры влияния действуют тоньше и связаны с российским истеблишментом теснее – потому их деятельность незаметна. Во-вторых, американцы не только не умеют скрывать свою враждебность к нам, но и не хотят. Они любят, когда их ненавидят.
Порассуждаем на эту тему более подробно, держа в уме совет Сунь-Цзы.
Глядя на западные страны по эту и ту стороны океана, нельзя не удивиться разнице между заезженной парой быть и казаться.
Вот Америка. Недавно я наконец понял, кто является воплощением этой страны, квинтэссенцией всей ее политики, культуры и ментальности. Это Полковник Сандерс – тот, который основал KFC и наградил ее эмблему своей физиономией. О нем и его жральнях нужно знать только две вещи. Во-первых, он не полковник. Во-вторых, легендарная курица KFC – дерьмо.
Это все, что нужно знать про США. Эта страна вообще не пытается что-то из себя представлять (сама по себе) – но блистательно представляет себя всем другим. Неважно, является ли Сандерс полковником – важно, что даже статья в Википедии называется Colonel Sanders, а не Harland David Sanders. Навязать всему миру именование себя по званию, которое не соответствует реальности, и ничуть этого не смущаться – это не про Сандерса, а про всю его страну.
Знаете, на больших вечеринках иногда появляются яркие и шумные персонажи. Они блистают – входят с помпой, поднимают тосты, травят угарные байки, увлекают всех красивых девушек и пару некрасивых, со всеми обмениваются контактами, пьют на брудершафт, уезжают под аплодисменты. А потом гости, стесняясь собственного невежества, шепотом спрашивают друг друга: «А кто это был?». «Э, я думал, ты его знаешь, ты же ему денег одолжил…». Вот это про Америку – никто не может толком понять, что это за трехсотмиллионная хрень, но все от нее без ума – особенно те, кто громче всех ее якобы ненавидит.
Хочу быть правильно понятым – нет сомнений в том, что американская культура – одна из величайших в истории. Великий кинематограф, блистательная литература, сверхуспешная наука. Я сам рос в девяностых на диснеевских мультах и голливудских боевиках – и воспоминания о них у меня достаточно теплые. Но в чем американцы действительно неподражаемы – так это в умении казаться. Они полковники, делающие лучшую курицу в мире – которые при этом не-полковники, делающие безвкусные помои.
Возьмем НАТО. Пусть в него входит множество стран, но понятно, кто там рулит – хотя бы по бессмысленному шуму, производимому этой структурой. Помпезные приемы в организацию, постоянные агрессивные заявления, топорная пропаганда – в общем, постоянное позерство и актерство при минимуме реального влияния. Европа, большая часть которой входит в НАТО, эту шайку-лейку, откровенно троллит и игнорит (например, прокатывает с финансированием, заставляя американцев башлять за весь банкет). Заокеанские дурачки без вопросов платят и будут платить даже в случае массового голода – ведь казаться лидером Запада куда важнее, чем быть им. Настоящие не-полковники.
Сравните с Великобританией. Мы много слышим про Уолл-стрит – типа там крутятся все деньги мира. А про Лондонскую биржу почти не слышим – но только вот половина ценных бумаг всего мира торгуется именно там. Хотя казалось бы – деньги и торговля являются американской фишкой.
Про политику и говорить нечего. Сколькими людьми руководит американский президент? Ну, Трамп мог руководить только своей администрацией – да и то несколько раз менял ее из-за нелояльности. Править страной ему не давали. А кем руководит английская королева? Да никем не руководит – только ленточки разрезает, шляпки меняет, потому что она «декоративная фигура». Ну и еще в довесок является суверенным монархом пятнадцати государств (включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию – и это мы не говорим про криптоколонии, вроде РФ), главой Британского Содружества (с фактически единой сетью спецслужб), объединяющего два с лишним миллиарда (!) человек, верховной главнокомандующей ядерной державы, главой Церкви Англии с 85-ю миллионами последователей и единоличной владелицей нескольких островов (которые по совместительству являются крупными мировыми офшорными центрами). Ну это чисто номинально, это не всерьез! На самом деле она, конечно, ничем не управляет – то ли дело американский президент! Ну и чисто как дань традиции: члены Тайного совета при королеве (куда входят сотни высших чиновников из десятков стран) дают ей чисто декоративную, чисто несерьезную типа клятву. Клятва звучит так (цитирую по кривому переводу из Википедии):
«Поклянитесь всемогущим Богом быть истинным и верным Слугой для Её Величества Королевы в качестве одного из Её Величества Тайного совета. <…> Вы будете полностью во всём, что происходит, обсуждается и оговаривается в Совете, верно и правдиво раскрывать свой Разум и Мнение, согласно с вашим Сердцем и Сознанием; и вы будете хранить в тайне все дела, совершённые и доверенные вам, или те в Совете, что должны держаться в секрете. <…> Вы будете до последнего нести Веру и Верность Королевскому Величеству; и будете помогать и защищать все Юрисдикции, Верховенства, и Полномочия, данные Её Величеству <…>. И во всех делах, в общем, вы будете верными и правдивыми Служителями, должными Её Величеству. Да поможет вам Бог».
Ну да, такую клятву дают ведущие политики десятков стран – ну это же просто так! Действительно, разве это хоть что-то значит, разве нельзя ослушаться королеву? Да легко – спросите принцессу Диану.
Или Франция. Французы воевать не умеют и не любят, зато любят круассаны и либертэ-фратернитэ. Ну а то, что Франция до сих пор сохраняет сеть колоний и военных баз по всему миру, а также является ядерной державой и обладает пятой—шестой военной силой в мире, так это просто так, по инерции. Криптоколоний не имеет – ну разве что всякие Ираны да Румынии-Албании. А так-то они смешнульки – у них даже военные пумпончики носят да поют о лё шамп элизэ.
Ну а какая страна самая вооруженная в мире (на душу населения) – где все граждане проходят постоянные военные сборы, и которая готова мобилизовать 20% населения за пару суток? Небось Северная Корея или еще какое недоразумение на карте мира? Ну, понятно, что это не миролюбивая Швейцария и не… Ой нет, как раз Швейцария. Ну это же тоже несерьезно, правильно, ведь швейцарцы только сыр едят да часы мастерят? А тотальный милитаризм – это просто физкультура, наверно. Точно, она самая.
Нация Полковников Сандерсов так бы не смогла – быть, но не казаться. «Зачем тогда все это, если нельзя похвастать?».
Западные европейцы – это взрослые люди, для которых американская хлестаковщина является детским садом. Европейцы – дипломаты, для которых всякая война уже есть признание поражения – в точном соответствии с Сунь-Цзы:
«Показателем высшего искусства войны будет победа над противником без сражений с ним. Совершенный воин будет бить по замыслам. На более низком уровне разрушают союзы противника. На самом низком уровне осаждают крепости».
Там, где американец устраивает военные кампании и дворцовые перевороты, предварительно расставив теле- и кинокамеры, европеец дарит подарки, шепчет на ушко и пожимает руки.
Вполне возможно, что англичане и французы Сунь-Цзы не читали – зачем им? Они нацию, его породившую, накурили опиумом да пару раз раздолбали еще полтора века назад. Вот и «искусство побеждать». Они и американцев накурят да раздолбают – так что те и не заметят. Как не заметили этого русские, у которых те же Британия и Франция украли их подлинное Отечество – Российскую империю. Такие вот «добрые европейцы».
Но нет, не они нам страшны – не те, кто организовал геноцид 20-х – 30-х. У нас другой великий враг – Полковники Сандерсы, которые могут уничтожить нас, закидав куриными крылышками. Полковники, наверно, и рады бы – но это для них опасно, ведь Россия может и ответить. Потому они будут надувать щеки, сжимать кулаки, хмурить брови, рвать тельняхи, но нападать не станут – телекартинка получится некрасивая.
«Жизнь блатная нравится, воровать боюсь» – в этом вся Америка. Там Сунь-Цзы не читают. Ждут экранизации.
4. К Гераклиту
«Внемля не моему, но этому логосу, должно согласиться: мудрость в том, чтобы знать все как одно».
Этому фрагменту А. В. Лебедев, наш ведущий специалист по доплатоникам, присвоил первый номер в своем издании Гераклита [АИ 4] – потому как считает его системообразующим для всей философской системы ионийского мудреца. В комментариях к этому и соседним фрагментам Лебедев дает примерно следующую интерпретацию [АИ 4]:
1) «Внемля не моему» является стандартным ходом для профетической (пророческой) речи – мол, я излагаю не свое мнение, а открывшуюся мне божественную истину. Но при этом Гераклит не религиозный проповедник, а теолог – он постигает истину самостоятельно, а не через откровение. То есть его прозрение является интуитивным.
2) «Этот логос» – не что иное как книга природы: логос в обыденном значении обозначает, в первую очередь, речь и слово, в том числе книгу. Это значение имеется и в русском языке – например, «Слово о походе Игореве» (которое, кстати говоря, почему-то на современный русский переведено как «Слово о полку» так, будто речь идет о воинском соединении, а не о военном походе). По Гераклиту, природу нужно правильно читать (или слушать – в древние времена читали вслух) – и тогда всякое отдельное «слово» (явление природы) станет частью полноценной книги, а не в разрозненным ворохом слов-понятий. То есть нужно читать не книгу-логос Гераклита (не его сочинение), а книгу-логос космоса.
3) Лебедев настаивает на том, что под «всё» следует понимать не совокупность отдельных вещей, а пары противоположностей. По этому поводу А. В. нередко сетует на получившую распространение неточность в понимании Гераклита – мол, у философа противоположности едины. Нет, они не едины, а тождественны. То есть они не просто объединяются, а изначально являются одним и тем же. Для объяснения разницы приведем такие примеры: выражение «партия и народ едины» не предполагает, что партия и народ совпадают – они сначала существуют по отдельности, а потом соединяются. А вот утреннее и вечернее солнце не едины – это одно и то же солнце. Так вот у Гераклита оппозиции именно что совпадают (как утреннее солнце с вечерним).
4) «Мудрость в том, чтобы знать все как одно» можно читать и по-другому: «есть только одно /столь/ Мудрое существо, чтобы знать все» [АИ 4]. Согласно интерпретации, Гераклит мог специально заложить в текст потенциал двойного прочтения – чтобы, например, защититься от обвинений во введении новых богов (как мы помним, Сократа много позже казнили именно по этому обвинению). Таким образом, Гераклит постулировал свой главный теологический принцип – пантеистический монотеизм (взамен традиционному греческому политеизму, известному нам по сочинениям поэтов).
Итого у нас получается, что высший бог написал логос природы, который мы сможем прочесть, если будем внимать ему со всем разумением, а не отвлекаться на частности (ведь как говорил тот же Гераклит, «многознание уму не научает»).
Самое важное в лебедевской интерпретации Гераклита – это помещение философа в разряд религиозно-политических моралистов. А. В. настаивает на ошибочности аристотелевского понимания гераклитовской философии как чисто физической, из которого выходит, что Гераклит был натурфилософом типа Фалеса. Нет, Гераклита вообще не интересовали научные вопросы – он был идеологом теократического государства, единолично управляемым царем, наместником Зевса, вершащим на земле небесный закон.
Найдется немного философов, сравнимых с Гераклитом по степени притягательности. Понятно, почему его так любил Гегель – не только за «диалектику», но и за радикальный монизм: его идеал – единый разумно устроенный космос, единое государство (космополис) с единым правителем и моральным законом. Гераклитовский пантеизм не имеет ничего общего с слащавым нью-эйджем («бог в каждой травинке, ля-ля-ля») – это идеология агрессивного милитаризма, империализма и вождизма, освещенная монотеистической теологией. Может быть, Гераклита следует признать духовным отцом всех правых политических течений.
Но зададимся вопросом: а действительно ли можно знать все как одно? Действительно ли сущее представляет собой единую, логично организованную книгу? Чем дольше я живу, тем менее сущее кажется мне единым. Понятно, что наш разум стремится найти взаимосвязь всего со всем – но так ли это на самом деле?
Возьмем классическое триединство истины, добра и красоты, гипостазированное в античном платонизме. Что такого доброго в физической, химической и биологической истине? Красота в законах природы есть – они неплохо подогнаны друг к другу (отчего доныне популярна теория разумного замысла – последний оплот теологии). Но одно дело – признать, что в истине есть красота, а другое – соединить их вместе и трансцендировать, присовокупив к ним еще и благо. Иными словами, то, что в открытых учеными истинах можно увидеть красоту, еще не означает, что красота и истина существуют сами по себе и в единстве.
Давайте возьмем несколько областей сущего и наук, их изучающих, и спросим себя, насколько вообще возможно увидеть единство между ними: 1) физика полупроводников, 2) лингвистическое религиоведение, 3) военная экономика, 4) математическая логика, 5) музыковедение, 6) теория дизайна, 7) робототехника, 8) паразитология, 9) фармакология, 10) философия истории, 11) биохимия растений, 12) астрометрия, 13) банковское дело, 14) семейное право, 15) физиология животных, 16) археология, 17) тифлопедагогика, 18) статистическое моделирование, 19) акушерство, 20) криптография, 22) политическая география, 23) кинология, 24) спортивная биомеханика, 25) геральдика.
Все это или реальные научные или, в крайнем случае, технические дисциплины – изучающие реально сущие объекты. Да, это именно то многознание, которое, по Гераклиту, не научает уму – уму, который понимался философом как непосредственное интуитивное схватывание сущности сущего. Его неприязнь многознания понятна – концентрируясь на частном, человек опосредуется от всеобщего логоса и утопает в пестроте феноменального. Но, спросим себя (и его) еще раз: а с чего вдруг мы должны принять за истину результат такого схватывания – а не смотреть на мир критическим взглядом как на ряд не связанных друг с другом предметов познания?
Когда-то платоники и стоики, последователи Гераклита (первые – частично, вторые – основательно), выделили три области философии – физику, этику и логику. Разумеется, они связывали их воедино, выводя одно из другого. Боюсь, эти связи призрачны – и поженить музыку и право, медицину и археологию, логику и зоологию вряд ли возможно без того, чтобы подменить реальность умозрительной фантазией об их логико-физико-этическом единстве.
Ну правда: вот вообще не получается представить, что мы с физическим космосом (представляющий собой миллиарды световых лет кромешного ада) каким-то образом составляем друг с другом единое сущее, которое нужно знать как одно. И уж тем более трудно увидеть во всем этом несходном множестве всего отражение истины, добра и красоты. Так что если логос является книгой природы, то стилистического единства нынешнему ее изданию точно недостает.
5. К Демокриту
«Добро не в том, чтобы не делать несправедливости, а в том, чтобы даже не желать этого. <…> Самого себя следует стыдиться ничуть не меньше, чем других людей, и не должно совершить дурной поступок, даже если никто об этом не узнает, все равно как если бы о нем узнали все люди. Больше всего надо стыдиться самого себя и для души должен быть установлен закон: „Не совершай ничего неподобающего“».
Этика Демокрита занимает в истории моральной философии особое место – тот принцип, о котором говорится в цитате, судя по всему, является первой экспликацией аретологии (этики добродетелей). Особенность аретологии в том, что она, во-первых, не разделяет мотивы и результаты поступков, а во-вторых, главным образом обращена к самому человека как носителю моральных качеств (а не только к поступкам).
То есть. Если вопрос «как должно поступать» является ключевым для деонтологической этики (этики долга), а вопрос «к каким результатам нужно стремится при совершении поступков» является центральным для консеквенциализма (этики результата), то аретология сосредоточена на том, какими качествами должен обладать нравственный человек. Такой человек стремится и к добродетелям самим по себе (ибо они прекрасны), и к общей пользе (посредством совершения благих поступков), и к достижению личного счастья (наступающего благодаря правильной жизни и совершению благодеяний). Для этики добродетелей оба вопроса – о должном и о целях – находятся в единстве. Вот у Демокрита впервые содержится и апология должного, и формулировка главной цели благой жизни. Он же сформулировал и первый интегральный идеал такой жизни – эвтюмию (εὐθυμία). Это одновременно и радость, и удовлетворенность своим «моральным обликом», и умеренность, и отсутствие отравляющего душу страха перед высшими силами.
Не первый год занимаясь изучением этики добродетелей, я всякий раз удивляюсь тому, насколько недооценен Демокрит. Да, от него до нас не дошло ни одного полноценного сочинения, а большинство его этических фрагментов более походят на пословицы, чем на философские изречения, но общий дух его этики виден невооруженным глазом. В центре демокритовской моральной философии находится автономный человек, свободно выбирающий цели и средства своих поступков и не скованный ни мифологией, ни религией.
В советское время Демокрит был любимым объектом историков философии – ведь именно ему выпала сомнительная честь стать первым в истории последовательным материалистом, атеистом и атомистом. Однако советские историки пусть и положительно оценивали светскость его этики, но, на мой взгляд, принижали ее роль в общем развитии античной нравственной мысли. Я не берусь утверждать, что влияние Демокрита было невообразимо велико (для такого утверждения нужно быть профессиональным филологом), но видеть в нем только предшественника физики Эпикура и Лукреция было бы несправедливо.
Чтобы не погружаться в детали, опишем ситуацию с восприятием этики Демокрита в нескольких тезисах. Во-первых, на нее принято смотреть несколько свысока потому, что она плохо согласуется с его онтологией. Если в мире все подчинено механическим движениям атомов в пустоте, то откуда у нас свобода воли? Этот упрек отчасти справедлив – философу следует избегать нестыковок между физикой и этикой. Но не следует забывать, что Демокрит не был философом в том же смысле, в котором ими были Платон с Аристотелем. Он был ученым ионийского типа – и потому был сосредоточен скорее не на том, чтобы все со всем связать (то есть не на логике), а на том, чтобы исследовать окружающий мир (то есть на физике). А для ученого физика и этика не обязательно связаны – это разные области исследования.
Во-вторых, то, что до нас дошло, выглядит довольно куце – многие высказывания, действительно, скорее походят на народные мудрости (а философ отличается – или, во всяком случае, должен отличаться – от моралистов «из народа» доказательностью своих утверждений): «Благоразумный человек не скорбит о том, чего не имеет, но радуется тому, что у него есть», «обманщики и лицемеры те, которые на словах делают все, на деле ничего», «не относись ко всем с подозрением, но будь осторожен и осмотрителен» и так далее. Но от Гераклита дошло в несколько раз меньше (и многие фрагменты состоят из двух слов), но это не мешает внимательным исследователям видеть в нем выдающегося морального философа.
В-третьих, авторство фрагментов постоянно оспаривается – мол, за Демокрита многое могли насочинять поздние авторы. Да, подложные цитаты и свидетельства имеют место – но если посмотреть его всю его доксографию по вопросам этики, то можно увидеть, что большинство фрагментов представляет собой вполне понятную и стройную систему. Так что аттестовывать его нравственное учение как противоречивое совсем не следует.
В области морали я вижу Демокрита прямым предшественником Аристотеля – в гораздо большей степени, чем Эпикура. Разумеется, речь не о теоретической разработанности этической проблематики – тут Аристотелю на голову уступает даже Платон. Речь о главном посыле Демокрита (как я его понимаю): человек обладает свободой воли и должен употребить ее на воспитание добродетели, принесение пользы обществу и достижению блаженной счастливой жизни через дружбу с достойными людьми, несуетность, умеренность и здравомыслие.
Так почему же эта связь почти всегда ускользает от историков философии – или же о ней говорится между делом (мол, да, вполне мог оказать влияние)? Я полагаю, у этой «слепоты» имеются две причины. Во-первых, историки слишком большое внимание уделяют онтологии – и считают этику интересной лишь в той степени, в которой оная с онтологией согласна. А раз у Демокрита между этими двумя областями имеется некоторый разрыв, то, соответственно, она списывается в архив как нелогичная. Во-вторых, как следствие, раз Демокрит – материалист, атеист и «детерминист» (тот, для кого законы природы не подчиняются Провидению), а Аристотель – идеалист, теист и «телеологист» (тот, для кого все сущее стремится к высшему, божественному совершенству), то их обоих нужно развести по разные стороны баррикад. Иначе получается нелогично – действительно, как два мыслителя, взгляды которых столь различны в вопросах устройства бытия, могут быть солидарны друг с другом в вопросах политики и морали? Такое допущение рушит всю эту бессмысленную концепцию противостояния идеалистов и материалистов.
Казалось бы, связь Демокрита с Аристотелем налицо – оба были эвдемонистами (теми, кто считает счастье главной целью жизни), оба проповедовали умеренность и благоразумие, оба говорили о важности общественного служения, оба считали, что для добродетели важны не только действия, но и мотивы действий (о чем, собственно, и говорится в выбранном фрагменте). Но сделать последний шаг – установить между ними преемственность – историки отказываются (по крайней мере, при написании учебников и обзорных работ), чтобы не нарушить схему «материализм/идеализм».
Такой пример превалирования теории над фактами должен нас не огорчать, а ободрять – изучать историю философии нужно не только по учебникам, но и по первоисточникам, потому что далеко не все можно вычерпать из научно-популярных изложений. А значит каждого, кто не пренебрегает изучением самих текстов философов, ждет много открытий. И самостоятельно делать такие открытия куда интереснее, чем получать готовую мудрость из вторых рук – ведь только так мы обретаем понимание, а не ограничиваемся запоминанием чужих пониманий.





