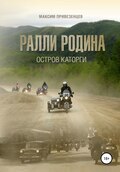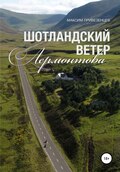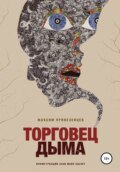Максим Привезенцев
Дервиши на мотоциклах. Каспийские кочевники
Остается загадкой только, кто были те люди, которые выполняли Симовы приказы? Ведь после потопа всех осталось только пятеро: Ной, жена его, Сим, Иафет и Хам. Меня всегда волновала эта история. На полях ветхозаветного сюжета возникают какие-то иные персонажи, совершенно сторонние великаны – дети земных женщин от ангелов, неизвестные народы и племена, которых, вроде бы, не должно было существовать, по крайней мере, после потопа, ну и так далее. А где во время потопа бродил или плавал Каин? Какие колодцы этого мира вырыли по его приказу?
Но что древним легендам до нашей банальной логики?
Это особенно ясно, когда стоишь под стенами этого города, который две из двух с половиной тысяч лет своей истории был глубочайшей провинцией великого Хорезма. Своему возвышению Хива обязана большой беде. В конце XVI века в Стране Света, пережившей десятки нашествий, случилась природная катастрофа космического масштаба – ушла вода и наступила пустыня. Семевский, – с некоторой научно-рационалистической наивностью, свойственной его эпохе, – критиковал эту версию, но факт остается фактом. Амударья, великая река, берущая свое начало в предгорьях Памира, за несколько десятилетий изменила русло. Когда-то она впадала в Каспийское море, затем стала впадать в Аральское. Теперь, с конца ХХ века, она не доходит даже и до Арала, теряясь в песках, и может быть, поэтому нам легче представить весь ужас тех, давних уже времен. Пустыня год за годом наступала на кишлаки и дороги, на города и сады, река сначала обмелела и стала не судоходной, а потом вода и вовсе ушла. Начались болезни и голод, люди в ужасе бежали из насиженных мест, а суда, шедшие по Великому Шелковому пути на Восток, соединяя Европу и Китай, уступили место верблюжьим караванам – ведущие их проводники и погонщики сменили капитанов и матросов.
Воспетый в тысяче древних книг город Гургандж (Ургенч), – старая столица Хорезма (нынче Старый Ургенч на территории Туркмении) – оказался погребен под песками, а столицу перенесли ближе к новому руслу Амударьи, в Хиву. Тогда это было невероятное несчастье для всех хорезмийцев, вынужденных покинуть родные земли не под напором врага, а под ударом сил куда более мощных и неотвратимых.
Старое хорезмийское предание рассказывает о злом хане, укравшем воду. Действительно, разоритель и губитель этих земель Чингиз-хан, первый иностранный завоеватель, которому удалось покорить Хорезм и сравнять с песком Ургенч, засыпал арыки и разрушал плотины. Но он ли виноват в окончательной катастрофе, которая случилась несколькими столетиями позже, – кто сегодня сможет ответить на этот вопрос?
…Ныне цитадель Хивы – Ичан-Кала – едва ли не единственный сохранившийся цельный ансамбль старого азиатского города. Отчасти Хиве повезло, она каким-то образом оказалась в стороне от большого советского строительства, и разве что единственная в Центральной Азии международная троллейбусная линия Хива – Ургенч, странная реплика к троллейбусу Симферополь – Ялта, напоминает о том, что здесь когда-то был Советский Союз.
Когда бродишь по этим мощеным улицам, выходишь на площади, изучаешь дворцы и минареты, хочется остановиться и спросить себя: а реальность ли все это или декорация к съемкам какого-нибудь кино, типа «Арабских ночей» или «Али-Бабы»? Нет, все-таки реальность. Если подняться на смотровую башню Ак-Шейх, старый город ложится перед тобой, как картинка. Вот они, городские ворота, сориентированные по сторонам света. Главная улица ведет с востока на запад, и это тоже символично. Или, может быть, с запада на восток?
Забавно отсюда выглядит Короткий Минарет (Кальта Минар). Замысел был грандиозным, но хан умер, и минарет не достроили. Самой высокой башней так и остался минарет Ислам Ходжа с фонарем и куполом наверху. Рядом с Кальта Минаром стоит медресе Мухаммад Амин-хана. В 1618 году, когда ее открыли, о новой хорезмийской столице заговорили ученые и богословы по всему Востоку. Но и Ургенч не забывали. Его знали, о нем помнили, об Ургенче тосковали, оттуда родом был Мухаммад аль-Хорезми, ректор первой арабской академии, знаменитого Дворца мудрости халифа аль-Мамуна, там работали аль-Бируни, Агахи, Наджм-ад дин аль-Кубра…
Здесь, конечно, все было куда проще, город стоял в стороне от больших дорог, богословы и дервиши, которые блуждали по этим пустыням от оазиса к оазису, от колодца к колодцу, редко поднимались так далеко на север, на границу почти безжизненных казахских степей, никогда не знавших исламской науки и образования. Хива была в стороне, и как новое место силы старой хорезмийской культуры быстро пришла в упадок. В начале ХХ века здесь почти невозможно было найти человека, читающего и разбирающего надписи на фарси, не говоря уже о старо-хорезмийском наречии. А о том, что творится за пределами мусульманского мира, могли знать только те хивинцы, которые выучились читать по-русски.
Но все не так просто на этом Востоке. Именно хивинцем был тот суфийский дервиш, который сказал Гурджиеву: «Не смотри вперед, смотри себе за спину», и, размышляя над этим высказыванием, так явно противоречащим европейскому взгляду на вещи, Георгий Иванович и создал свой знаменитый танец.
…Дворцы и гаремы меня не слишком впечатлили. В Хиве они выглядят несколько – как бы это сказать помягче, – провинциально. Но атмосферу создают. Так и представляешь себе, как томились здесь восточные красавицы, как стремились к ним пылкие возлюбленные из близлежащих селений. Сказка просто. Но это, скорее, следы неискоренимого европейского романтизма или нашей лермонтовщины, например. В провинциальной исламской вселенной ничего подобного и быть не могло.
Чур меня, чур!
VIII. В чайхане. Пахлеван Махмуд
От экскурсии со словоохотливым гидом, который бегло отбарабанил на местности заученный им заранее текст, мы, честно говоря, немножко утомились и зашли передохнуть в чайхану, которая была устроена возле небольшой ткацкой мастерской. В глубине зала – каждый за своей рамкой – сидели несколько местных мужиков. Они занимались совсем непривычным для мужчин в нашем современном понимании делом – ткали небольшие коврики. Я даже подумал, что как раз эти ковры и продают в местных сувенирных лавках в качестве антиквариата…
Чайханщик сразу мне кого-то смутно напомнил. Чистый эффект дежа вю. Я начал перебирать в уме всех своих знакомых, но так и не сообразил. А человек выглядел довольно странно. Абсолютно лысый, с большими пышными усами и почти «брежневскими» бровями, он скорей походил на армянина или азербайджанца, но никак не на местного персонажа. В его действиях не было никакой суеты и тем более желания угодить путешественникам. Наоборот, он вальяжно и немного даже угрюмо разливал чай и очевидно никуда не спешил. По крайней мере, в первые три минуты на нас никто не обращал внимания. На востоке это редкость.
В конце концов, нам все-таки подали чайник и стаканы. Чайханщик подошел, спросил, все ли в порядке. Я ответил, что да, все нормально, но он как будто бы не понял ответа и переспросил еще раз со странным, не узбекским акцентом:
– Все ли в порядке с вами? У вас все в порядке?
Я даже не знал, как отвечать на такой вопрос совершенно незнакомому человеку, а он вдруг сказал неожиданно вкрадчиво:
– Когда ты куда-то движешься, всегда возвращаешься обратно. Как челнок на ткацком станке. Если порядок сбивается, надо все начинать сначала.
И добавил:
– И что вы у нас уже повидали?
– Были на экскурсии, – признался я.
– В мавзолее Пахлавана Махмуда?
– Тоже были, – ответил Любер. – Как же без него. Нам рассказали, что архитектору, который его построил, дали прозвище Джинн.
– И все? – спросил чайханщик.
– Вроде, да, – неуверенно ответил я. – Может быть, мы что-то забыли, не услышали.
Почему-то я вдруг почувствовал неясную вину перед этим человеком, вроде как мы упустили самое главное, а теперь сдаем экзамен.
…У Пахлавана Махмуда простая история, обычная для здешних мест, но для Хивы он самый важный человек, – с большим напором произнес чайханщик, по-прежнему странно закругляя слова. – Вы должны запомнить это имя.
И, почти как по писанному, начал рассказывать. Такое было впечатление, что, как экскурсовод, чайханщик тоже заучил свою роль.
…Пахлаван значит «Силач». Силач Махмуд жил в Хиве семьсот лет тому назад и прожил семь десятков лет. Был он борцом, известным по всему Востоку. Старики вспоминают, как им говорили их старики, что на его поединки из дальних городов стекались тысячные толпы, а выступал он не только в Хорезме, но и в Индии, и в Арабии, и в Персии. Однажды две армии прервали битву, чтоб посмотреть поединок хивинца Махмуда. Он, как обычно, победил, и они вернулись к своему сражению. Что это была за война, какие правители и за что бились, кто участвовал и как погиб, – об этом мы ничего не знаем. История не сохранила нам этих сведений за их полной ненадобностью.
Но, кроме того, что хивинец Махмуд был непревзойденным борцом, он еще был философом, музыкантом и поэтом, то есть суфийским наставником. Закончив с борьбой, зарабатывал мастерством скорняка. Сидел на рынке, пел рубаи и шил шубы. Один из хадисов Пророка гласит, что, если руки могут работать, нелепо просить подаяния. Да и люди, которые могут слышать – где они? Они на торжище, в толпе, вот у нас, в чайхане. Здесь тебя услышат и поймут.
Над решеткой его надгробия в мавзолее выбиты такие строки:
«Сто раз я клятву повторю такую:
сто лет в темнице лучше протоскую,
сто гор в домашней ступе растолку —
чем истину тупице растолкую».
И еще, на стенах Мавзолея:
«Когда б мы этот мир могли исправить силой —
обрушило б добро все тропы злобы хилой!
Но мир – подобье нард: всего один бросок —
и жалкое грозит великому могилой…»
И еще —
«Мы с верой шли сквозь мир – и все же в малой мере
мир плоти в мир души преобразить сумели.
Все семь десятков лет я думаю о том!
В испуге мы пришли, уйдем в недоуменье…»
Пахлавана Махмуда знает и помнит вся Хива. Даже главный арык, питающий город водой, назван его именем – Палван-йап. Да, мудрость и поэзия – вода в пустыне, – с этими словами чайханщик собрал наши пустые стаканы, поставил их на поднос и уже собрался их отнести, как вдруг опять спросил:
– А танцевать вы умеете?
Мы вообще не поняли, о чем он.
Тогда чайханщик сделал один полукруг, и поднос оказался у него на уровне груди, потом еще один, и поднос как бы уже стоял левом на плече. Чайханщик замер на одной ноге, все тело оказалось как-то странно вывернуто, голова склонена направо, – потом совсем неожиданно улыбнулся нам широкой, почти американской, улыбкой и ушел из зала.
…Восток учит принимать всякий поворот как нечто само собой разумеющееся. Поднялись и мы. Пора было найти какое-то более человеческое кафе и, наконец, просто перекусить.
К тому же необходимо было заняться вплотную мотоциклом…
IX. Тысяча надежд, погребенных под песком…
Вечером в гостинице, после вкусного, по-настоящему вкусного узбекского ужина – как же все-таки узбекская кухня отличается от казахской (у казахов, по крайней мере, тут, в закаспийских степях и песках, ее, кажется, вообще нет – есть только еда, чтоб утолить голод) – я лежал и думал обо всех впечатлениях этого первого действительно прекрасного дня нашего путешествия. Да, конечно, нынешний Хорезм не хранит даже тени своего былого величия, но все же вот она, Азия, куда мы ехали, куда мы хотели приехать. И какая же это провинция, даже по сравнению с остальным Узбекистаном! Как смешно мне пытались приварить алюминиевый диск обычной сваркой, как мужик уверял, что работал в аэропорту и все умеет… как, в общем-то, примитивно рассказывал местный гид, убежденный, что больше всего нас интересуют гаремы и резной трон хана… Каким странным оказался чайханщик, почти безумец, переходящий от угрюмой замкнутости к назидательным историям! Как это и печально, и закономерно… Если ты в стороне от больших дорог мира, твоя частная история мельчает и истончается, как река среди песков.
Перед сном я опять немного почитал Семевского. Он писал об этих местах:
«Хорезм… Это слово ассоциируется с красивыми восточными легендами на фоне вечно голубого неба и цветущего оазиса. Но таков Хорезм был только в описаниях экзотических путешественников, глядящих на природу и быт колоний из окон ханских дворцов, где они гостили.
Край беспощадной феодальной эксплуатации, векового рабства и полного бесправия трудящихся. Край мелкого, примитивного поливного земледелия в оазисе, мускульным, человеческим трудом многих поколений отвоеванных от пустыни.
Хорезм, раньше не имевший никаких индустриальных предприятий, осветился электричеством. Построены и пущены в эксплуатацию электростанции, обогатился Хорезм типографией, маслобойным заводом и пятью хлопкоочистительными заводами.
Хорезм занимает северо-восточную часть Кара-Кумов, прилегающую к левому берегу Амударьи. Он представляет собой песчано-глинистую равнину с уклоном 0,2 – 0,4 километра на север и запад, сложенную отложениями древней Саракамышской дельты Амударьи. Несколько сотен километров отделяют Хорезм от ближайшей железной дороги. Основное богатство края – хлопок – доставляется, главным образом, на верблюдах, движение вверх по Амударье, благодаря очень быстрому ее течению, отнимает времени не меньше, чем верблюжий транспорт.
В настоящее время в Хорезме семь машинно-транспортных станций и много своих автомобилей.
На протяжении всего Хорезма автопробег встречали тепло и радушно в каждом колхозе, каждом кишлаке. Машины засыпали арбузами, дынями, виноградом…
Немыслимо было останавливаться в каждом кишлаке, это сильно задержало бы колонну, но колхозники настаивали на этом. Живая стена людей становилась по дороге, и машины не пропускались до тех пор, пока в каждую не были положены прекрасные, ароматные дыни и влажный, только что сорванный виноград.
Тяжела пыль Хорезма. От нее не убережешься, она проникает сквозь тент, сквозь одежду. Многие получали накожные болезни от пыли, попадающей на потное тело».
Что изменилось с тех пор? Прошло почти сто лет. Куда ушли их надежды? В тишину пустыни. Где внуки тех колхозников, которые встречали коммунистический автопробег? Старики, они расстилают свои коврики и совершают намаз в кварталах – махалля. Многие молодые уже почти не говорят по-русски. Не знают они и арабского. Все это сны. И я уходил в сон с чувством, что нечто главное все же от меня ускользнуло. Как там, у силача Махмуда сказано:
«Строитель небосвода, вечный зодчий,
что за день ты воздвиг, обрушишь к ночи:
мечети своды и законов свод,
едва уйдем, подточит время тотчас…»
Х. Азиатский сюр. Каракумы, колотун…
Несколько сотен километров по пустыне от Хивы до Бухары еще пару лет назад стали бы для нас серьезным испытанием. При этом новая трасса давно существовала, ее строили то ли китайцы с узбеками, то ли немцы, но долго не открывали, случилась целая история с географией, кто-то где-то не сумел соблюсти технические нормы или не проплатил необходимые деньги. В любом случае, люди катались по старой, совершенно убитой советской дороге. Изрытый асфальт тонул в песках, а рядом стояла пустая и идеальная новая трасса, как поле под паром. Типичный азиатский сюр, для тех, кто понимает. Но где-то за год-два до нашего трипа все споры закончились, автомагистраль открыли, даже разметку кое-где нанесли – ну, прямо европейский стандарт. Так что катили мы, если не с комфортом, то спокойно. Смущало только одно – невероятный для этого времени года колотун. Самый конец апреля, Азия, Каракумы, и вместо полуденного зноя в песках – холод такой, что хотелось спрятаться, и больше не высовывать носа. Подавляя это желание, мы время от времени гонялись по пустыне за верблюдами, и, наконец, затормозили у главного оплота цивилизации в таких местах – придорожной чайханы.
– Это еще ничего, сейчас не так холодно, – успокоил нас чайханщик. – Ночью буран был.
И добавил:
– В Москве теплее, наверное.
– Думали, в пустыне от жажды умирать будем, но нет, мы просто здесь замерзнем, – сказал Любер.
– Ничего, чай горячий и лепешки вкусные, – ответил Вася, и мы поняли, насколько он был прав.
…Пустыня заканчивалась постепенно. Сначала появились несколько по-настоящему зеленых деревьев вдоль дороги, потом пошли кишлаки, и стало ясно: здесь есть вода. Вода – это жизнь. Банально, но мы в Бухаре.
…Говорят, летом на солнце в этом городе бывает и 70 градусов по Цельсию. По крайней мере, такова точка зрения местных, и по отношению к ней необходима определенная дистанция. Пугать своими климатическими чудесами люди любят по всему миру. Но за 50 у них точно температура поднимается, в этом можно не сомневаться…
…Но у нас все было иначе. Когда мы проезжали вывеску «Бухара», термометр еле дотягивал до плюс 14, ветер сбивал с ног, и о жаре оставалось только мечтать. Мы уже и не мечтали.
ХI. Бухара: плавное погружение в безвременье
Как только мы заехали поужинать в европейского вида кафе, и я заикнулся о кальянных табаках, нам тут же поведали, что Бухара – центр узбекской кальянной культуры. Бармен живописал, как в душные летние вечера бухарцы выходят с кальянами на улицы, и курят их, сидя у себя под окнами. Очень убедительная картинка. Особенно в новых районах, которые тут тоже имеют место быть, как и повсюду на развалинах бывшего СССР…
Но это все так, шутки. В старых кварталах-махалля такая усеянная курильщиками улица выглядела бы исключительно хрестоматийно. Старики учат молодых, мужчины рассказывают друг другу о своих повседневных делах, от Аллаха до базара расстояние меньше мизинца. Восток ибн Восток…
Но при нашей погоде бухарцы курили свои кальяны дома, а мы – в заведении. Вкуснейший плов – и в сон. Все достопримечательности – с утра. И еще обязательно сходим на базар.
Бухара – город-сказка и город-декорация одновременно. Если у тебя было собственное представление о Центральной Азии, то здесь почти наверняка оно полностью совпадет с реальностью. Узкие уютные улочки, неспешные, гостеприимные и словоохотливые местные жители и бесконечные памятники старины, которые реставрированы или восстановлены по старинным рисункам и картинкам или в позднее советское время, или уже в независимом Узбекистане.
…Узбеки утверждают, что городу 2500 лет. Это их любимое число. 2500 лет, по их представлениям, каждому старинному азиатскому городу, а Самарканду – так все четыре с половиной тысячи. Но какая-то правда за всеми этими датировками есть. Археологи подтверждают, что люди тут жили с очень давних пор. Культурный слой уходит в глубину больше, чем на 20 метров. Александр Македонский в этих местах проходил, это известно, и город в его время уже существовал. Так что две с половиной тысячи, да, и это минимум.
В глубокой древности земли, на которых раскинулась современная Бухара, входили в состав страны Согда, или, как греки ее называли, Согдиана. Одна из легенд гласит, что сын некоего, то ли согдийского, то ли персидского царя, один из героев «Шахнаме» Сиявуш решил взять в жены дочь знаменитого Афросиаба, и, чтобы отпраздновать свадьбу, построил крепость Арк. От нее и пошла Бухара, «вихара» то есть, – то ли «монастырь», то ли «обитель знания».
… Азиатские древности созданы, отреставрированы и построены заново для того, чтобы будоражить воображение путешественника. Это непреложный факт.
Когда были насыпаны земляные стены Арка, не знает никто. Но мусульманские достопримечательности внутри – мечети Джоме и Хонако, тронный зал и бани бухарского эмира – ровесники московского Кремля. А еще на полстолетия раньше, как говорят все карты и путеводители, где-то здесь жил Омар Хайям. Мир все же очень тесен. Ведь Омар Хайям – поэт сугубо наш, русско-советский, домашний, почти как Есенин. Может быть, как раз за следующим поворотом, в тени минарета, он любил свою красавицу и пил свое вино, воспевая Персию наших грез. Был он, конечно, суфий, и писал, конечно, только о Боге, однако нашим отцам и дедам от Питера до Сахалина, когда они читали вечером под настольной лампой этот незабываемый рубаят, было глубоко плевать на историко-филологические подробности. И грезились отнюдь не райские гурии…
В интеллектуальной духоте Советского Союза было несколько окон, позволявших ощутить ветер иных просторов. Омар Хайям, двенадцать лет проживший в городе Бухаре, и еще столько же в Самарканде, распахивал пусть небольшое, но очень существенное окно. За ним открывался сад под иным небом и на иной земле, который я в своих пустынях, конечно же, не нашел. И не мог найти.
Зато в каждом городе, особенно на Востоке, найдется место ужасу. Испугать путешественника – это очень древняя задача. Странствует он, странствует, а вдруг захочет остаться? Ведь были такие случаи. Дома он служил купцом, а то и приказчиком при купце, а тут становился визирем, любимым другом и наперсником хана. Не знал местных обычаев, презирал местные обиды. Надо было сразу ему объяснить, что совсем не все так безоблачно в его жизни. Владыка – человек переменчивый, у него с утра бывает дурное настроение, или младшая жена упрямится и капризничает, или старший сын строит козни и вот-вот соберет войско, так что голова нашего гостя может слететь в любой момент. Мы были ему рады, но теперь он уже примелькался. Пусть для своего же блага собирает манатки и чешет дальше, в другой город, в другую страну.
А вернется домой – напишет книгу. И в книге будет место нашей несравненной жестокости. А то подумаешь – свинцовая венецианская тюрьма, она – хорошая гостиница против нашего зидана.
Так что в любом уважающем себя азиатском городе существует точка восточного коварства, где свершались жуткие казни, самоубивались девушки, бросались на меч юноши, катились в ров головы незадачливых путников, ну и так далее, со всеми вытекающими последствиями. В Бухаре такое место – Большой Минарет, или, как его называют на местном наречии, минарет Калян – самое высокое здание в старом городе. Оттуда, как нам с особенной радостью поведал экскурсовод, сбрасывали приговоренных к смерти. Их было много, иногда очень много. Смотря какой хан, какие у него жены, какое у хана настроение по утрам. Да и законы шариата никто не отменял, а они, хоть и несут в себе высшую справедливость, но суровы, кто станет спорить. Вероотступникам – смерть, богохульникам и вольнодумцам – смерть, клятвопреступникам – смерть, пьяницам – тоже смерть. Ворам – нет, не смерть, просто отрубают руку, и гуляй себе, если выживешь…
Кто и как потом убирал трупы, – об этом экскурсовод промолчал. Зато он сообщил о главном. Лицезрение казни должно было у горожан, собравшихся на площади у мечети, вызывать радостное чувство. Они понимали, что соблюли закон эмира и вообще жили как правильные люди, в отличие от неправильных, валяющихся тут, в пыли, у их ног…
XII. История по-азиатски: свирепые повелители и суфийские мистики
…Глядя на современную Бухару, трудно представить, что когда-то здесь царили такие уж суровые нравы. Неспешный, даже где-то нежный город вплетает тебя в свою паутину, воркует с тобой на десятке наречий. И нынешние языки – узбекский, русский, таджикский – тоже вплетаются в эту вековую разноголосицу. Согдийский, фарси, арабский, греческий, – да кого здесь только не было! И все эти сумасшедшие исторические памятники проясняют нынешний бухарский провинциальный ритм. В него достаточно легко входишь, привыкаешь к нему, особенно если не плетешься за экскурсоводом от мечети к лавке сувениров и оттуда к новой мечети, а катишься или прогуливаешься сам, пытаясь вслушаться в музыку давно уже полуспящей, оторванной от остального мира, а в чем-то безумной и очень современной Центральной Азии.
…Вот, в парке Саманидов усыпальница Исмаила Самани. Ну и что ж, X век, ничего страшного. Саманиды – целая эпоха в истории Востока. Один из них лежит здесь, иные в Персии, иные в Дамаске и Багдаде.
…Или медресе Улугбека на одной из улиц старого города, носящей имя Ходжи Набобода. Кто таков этот ходжа, мне как-то не удалось выяснить, а вот Улугбек – целая эпоха. Султан Мавераннахр, внук Тамерлана, ученый и воин, один из крупнейших астрономов в истории, он построил медресе в 1417 году. Такую же основал и в своей столице, в Самарканде. Думал создать лучшую на земле обитель для ученых и людей, ищущих знания, и действительно, при его жизни здесь преподавали и учились лучшие астрономы, географы, богословы, правоведы и поэты. Они разошлись по миру, а медресе осиротели. Теперь это только архитектура, классический среднеазиатский стиль.
Улугбек правил долго, почти сорок лет. На восемнадцатый год своего правления неподалеку от Самарканда он выстроил знаменитую обсерваторию, где вместе со своим учителем ал-Руми, другом ал-Каши и учеником ал-Кушчи долгие азиатские ночи наблюдал движение звезд. Жемчужиной этой обсерватории стал стенной квадрант, которому в ту пору не было равных в мире.
За десять с небольшим лет султан со товарищи составили уникальный по тем временам звездный каталог «Гургандский зидж». Когда в пятидесятые годы XVI века главное сочинение Улугбека «Новые Гурагановы астрономические таблицы» перевели на латынь, в Европе и близко не знали такой точности. Только Тихо Браге через столетие удалось достичь сходных результатов, но это был уже совершенно другой мир…
…В 1449 году Улугбек был предательски убит по приказу его сына Абдул-Латифа. Случилось это неподалеку от Самарканда. К этому времени великий ученый уже отказался от власти и думал стать странствующим книгочеем, как его ученик ал-Кушчи, добравшийся до Истамбула сразу же вслед за султаном Мехмедом Вторым. Но обыкновенные странники редко выходят из правителей мира. Слишком глубок след, слишком велик страх.
Обсерватория тоже впоследствии была разрушена – в XVII веке ее попросту разобрали на кирпичи. Прекрасный Мавераннахр, владыкой которого был великий внук великого Тимира, к этому времени стал забытой Богом дырой под звездным небом, глубокой провинцией мусульманского мира.
Еще через три столетия археологи все нашли. Они всегда все находят.
…По Бухаре лучше всего блуждать наугад. Стоило мне только немного уклониться от центра, как я вышел к удивительному месту – к ханаке Файзабад. Ханаки, как мне рассказали, стоят повсюду, где распространен суфизм. Здесь странствующие дервиши могли остановиться, переночевать и поупражняться в своем любимом деле – вращении. Они крутились и крутились вокруг оси – позвоночника, надеясь выпасть из-под власти сил времени и смерти.
Файзабад носит имя своего основателя, знаменитого странника ХVI века Мавлона Файзободи. Тут три этажа жилых комнат-худжр, где ночевали дервиши, и большой центральный зал, где они вершили свои причудливые обряды. Гурджиев потом напишет:
«В этом танце, через этот танец, совершалась великая остановка, то самое стояние в движении, о котором больше я ничего не могу вам рассказать».
Я закурил и задумался:
– А не к этой ли остановке я стремлюсь всю жизнь? Не ради ли нее пожирание пространства и медленное курение то там, то тут, в самых причудливых местах на этой земле? Мотоцикл на трассе – чем он, в сущности, не мой суфийский танец? Какая жажда гонит меня по этим дорогам?
В чайхане, куда я зашел выпить чаю и немного согреться, один суфий (оговорка: чайханщик) посоветовал мне съездить к некрополю Чор-Бакр, в восьми километрах от города. И оно, действительно, того стоило. Чор-Бакр стал естественным продолжением Файзабада. Вот пути живых, они приводят на пути мертвых.
Кладбища, которые удивляли нас в казахских степях, – просто варварское нагромождение камней по сравнению с этим городом за границей обжитого мира. Тут, в пределах высоких стен, есть свои улицы, ворота и дворы, ведущие к фамильным склепам и десяткам надгробий. В центре – медресе и еще одна ханака, а над ними купола – очи, глядящие в небеса.
Чор-Бакр – усыпальница джейбарских шейхов из суфийского ордена «Накшбандия», который и поныне властвует над умами и сердцами не только в Центральной и Малой Азии, но и на нашем Кавказе. Мавзолей основателя ордена Бахауддина Накшбанда тоже находится где-то в Бухаре, но до него как раз я не добрел. Понятно, что это священные места.
Тут очень интересный момент. У правоверных суннитов, тем более у последователей великого реформатора ислама Ибн Ваххаба, не может быть никаких священных мест, кроме Каабы. Для них это все язычество, по-арабски – ширк. Но суфии поклоняются памяти своих шейхов, и не только им. Они чтут все свидетельства присутствия Бога в мире – могилы великих людей и праведников, источники, колодцы, рощи и сады. В этом есть много детства, но и много истины. Мы любим свет за то, что он освещает предметы и делает прекрасными лица.
Хорезм, Бухара и Самарканд так же, как Персия и Индия, баюкали суфизм в колыбели. В Бухару съезжаются суфии со всего света – здесь родился и жил Накшбанд, основатель их самого известного и большого ордена. И отсюда же они расходятся по миру. Когда мы встречаем на улицах русских городов кавказцев, танцующих зикр, за ними встают те же тени суфийских дервишей, которые и поныне блуждают по городам и дорогам Востока.
Центральное захоронение Чор-Бакра – могила ходжи Абу Бакра Сада, двадцать лет бывшего наставником одного из самых знаменитых бухарских правителей – Абдуллы-хана II. Такое соединение мистического ислама и достаточно свирепой власти всегда было для меня загадкой, но в ней, наверное, есть и своя красота, и своя внутренняя логика. Так просто, без специальной подготовки, этого не понять. Надо, наверное, покружиться годик-другой…
XIII. Счастливый чала
…Отужинать мы решили в самом сердце старого города, в чайхане близ мечети Мох, или, как ее еще иначе называют, Магоки-Аттари, Мечеть в Яме. Мох, наверное, все-таки самое странное место в Бухаре, и в какой-то мере символ города. Небольшая квартальная мечеть XII века уходит в землю почти на пять метров. Но дело даже не в этом. Дело в наплывающих друг на друга пластах истории. В доисламские времена здесь, на базаре, стоял храм Луны. Потом, на том же месте, в Х веке была построена мечеть. Через два столетия ее перестроили. Уже к XV веку здание утопало в земле, поэтому мечеть считалась подземной. Легенда гласит, что до постройки в Бухаре первой синагоги евреи тут же молились вместе с мусульманами. Причем существуют две версии. Согласно одной, они это делали в одно и то же время, но в разных углах, а по другой, евреи приходили после мусульман.