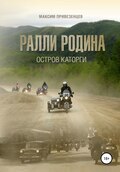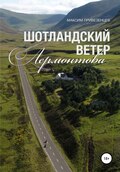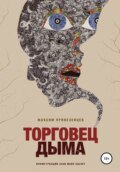Максим Привезенцев
Дервиши на мотоциклах. Каспийские кочевники
Вернемся, однако, в Ташкент. После двухнедельного пробега по Азии с заездом в старый Мерпт и старый Чарджуй, блужданий по музеям и базарам Бухары и Самарканда, трехдневного запоя в Навои, где Ксю когда-то училась в школе (отец ее был спецом по строительству атомных электростанций), Ташкент казался апофеозом современной цивилизации. У Сени можно было, наконец, забыть о том, что Восток – дело тонкое, особенно в исламо-эротическом аспекте, что утомляет и мешает насладиться экзотикой. Счастье и покой навсегда. Благо, вечность под этим высоченным азиатским небом вовсе не казалась метафорой. Время текло так медленно, что, кажется, от пробуждения где-то в два часа пополудни до пяти часов утра, когда все постепенно засыпали, проходила целая жизнь. И проходила она, надо сказать, неплохо, потому что мы целыми днями курили чуйку.
Надеюсь, про Чуйскую долину не надо рассказывать – все знают, что это такое. Только следует заметить, что в ту пору коноплю там еще не жгли и, вообще, никого особо не трогали, так что дури было много, очень много, и в любой момент могло стать еще больше. Сам Сеня ездил на берега благословенной реки пару раз и рассказывал какие-то совсем нереальные вещи. Можно было просто развести костер и улететь навсегда. Можно было заблудиться и попасть к царице До, которая умела заниматься любовью так, что после этого полгода не будешь ни с кем трахаться, обычная девчонка – просто детский лепет по сравнению с высокой поэзией. Ну и, конечно, «унесенные травой», сонмы призраков, которые по ночам в палатке нашептывают тебе свои истории. От хора их голосов невозможно укрыться. Ты проваливаешься в сон, а они бормочут и бормочут на тысяче разных наречий. Время от времени ты их понимаешь, время от времени это просто гул…
У каждой эпохи и у всякой подобной местности свои герои и свои мифотворцы.
…Пустые карманы, до центра далеко, так что из дома мы выходили редко, да и сил, надо признаться, особенно не было. Трава знала свое дело, она легко умела сродниться с каждым, то есть превратить каждого в растение, и в этой растительной жизни присутствовала такая роскошная нега, что, казалось, вплыть по ней в смерть – лучшая участь, которую только можно себе пожелать.
Однако пару раз мы все же выезжали с Чиланзара всей компанией. Перемещались на другой конец города. Это случалось, когда у Сени появлялись лишняя мелочь – на дорогу. Так, однажды мы оказались в массиве Горького, в районе частных домов, где жили только узбеки. Там, у Фатимы и Мурада, план просто сшибал с ног. Я сделал одну тягу, и меня унесло. Уже под утро, когда открыл глаза, увидел во всю стену фотографию моих московских друзей Офелии и Азазелло. «Странно, – подумал я, – мне кажется, что еще вечером на этом месте была просто белая отштукатуренная стенка с трещинами». Хотел было спросить Ксюшу, но это оказалось невозможно. Подруга моя была вроде бы в сознании, даже поднялась, когда мы собрались домой, но потеряла способность произносить слова. Напрочь. Как потом выяснилось, перед глазами у нее стояли совсем иные картинки…
В другой раз заехали к Тимуру, наполовину корейцу, наполовину каракалпаку, отец которого занимал какой-то пост в аппарате местного ЦК. Сам Тимур, ладно скроенный красивый парень лет двадцати пяти, постоянно курсировал между Бишкеком и Ташкентом с заездом в Казахстан, то есть гулял по Долине, сколько ему вздумается и в любое время года. Наверное, в нынешние времена его могли назвать наркокурьером, но одно «но»: он ничего никогда никому не продавал. Да и зачем? По тем временам он получал от родителей денег столько, что истратить не мог. Да и не на что было. Одевали Тимура, как принца, от девушек – не отбиться, в Москве и Питере он уже пожил, и дальше Чуйки путешествовать ему совершенно не хотелось. Он был своего рода сталкер, звал и вел, заманивал и легко мог бросить. «Степь отпоет», – эта знаменитая хлебниковская эпитафия очень в его духе. Правда, говорил он чуть по-другому: «Долина примет», – но суть та же. Существовала у Тимура и его отдельная, хотя и типичная для эпохи, история. На развалинах Баласагуна – древней крепости на берегу реки – ему явился черный старец и поведал о том, как устроен мир. О созвездии Ориона, о девяти сферах, о расах, пришедших с разных звезд, и о многом другом. Смысл жизни открылся для него и не составлял теперь никакого секрета. Тимур не просто сразу понимал, что за человек стоит перед ним, но и точно знал место каждого поэта в космической иерархии поэтов, так что спорить об искусстве или еще о чем-либо с ним было совершенно бесполезно. Да и как поспоришь с человеком, которому внятна истина?
Нас с Ксюшей этот просветленный немедленно определил в самую приятную расу, что и обусловило наше сближение. Скорей всего, ему просто нравилась Ксю. Как-никак, столичная модняцкая штучка, даже несмотря на некоторую обтрепанность в одежде, которая неизбежно возникла после нескольких месяцев стопа. В общем, девушка, обманывающая ожидания. Думаешь увидеть милую хиппушку, а видишь что-то совершенно другое. Однако и сам Тимур не всегда вписывался в общий контркультурный стандарт. О чем мы там говорили между собой, вальяжно вдыхая дым плывущего по кругу косяка? В худшем случае – о Рембо и Губанове, которые почему-то именно в паре были очень популярны в Ташкенте. А в остальном – о девках, парнях, голубых, розовых, о наркотиках, разумеется, об афганском маке и колумбийском порошке, о смерти, конечно, ну и об устройстве мира. Но однажды Тимур сразил нас наповал. Он вдруг обмолвился о феноменологических редукциях и интенциональности сознания, – я чуть со стула не свалился. «Ты что? – смутился Тимур. – Не падай. А с кем мне еще здесь философию перетереть? Сеня явно Гуссерля не читал».
В процессе выяснилось, что ни Сеня, ни Ксюша действительно не читали Гуссерля, а вот красавица Дина читала. До этого она молчала в основном, а тут оживилась и ну сыпать терминами. Оказалось, что барышня три года отучилась на философском в Томске, а потом вернулась домой. Утомилась. Да и трава в Томске дрянная…
…Все это было интересно, нежно и местами пронзительно, но за полтора месяца мы с Ксюшей несколько утомились: однообразно, как ни крути. И захотелось сменить обстановку, благо для этого представилась великолепная возможность.
Матушка моя, востоковед и профессор религиоведения в МГУ, занималась исламом, и среди ее аспирантов всегда присутствовало множество азиатов. В наш дом бесконечным потоком плыли белый лук, помидоры, яблоки, сливы, айва, гранаты и цветы. Образованные азиаты вообще обаятельны, а у этих еще присутствовали и карьерные соображения, так что они были обаятельны вдвойне. Разумеется, и к отцу, и ко мне, несчастному, тоже подлизывались, иногда звали в ресторан, иногда даже знакомили с девушками. Мама прекрасно понимала природу такого внимания и никогда не обольщалась по части бескорыстной любви учеников к учителю. Но воспринимала их с иронией, благо совсем уж дураков среди них не было, надо было, как минимум, знать арабский, персидский и еще один европейский язык, что подразумевало определенный уровень. А вот любопытные персонажи наличествовали.
Обычно, защитив диссер, азиаты растворялись на бескрайних просторах СССР, но исправно присылали открытки по праздникам. К 1 мая, 7 ноября и Новому году, чтоб достать почту из ящика, надо было брать с собой корзинку или пакет.
Время от времени кто-то проявлялся – приезжали, снова с фруктами и цветами, сватали каких-то знакомых, приводили жен и детей, пытались стать почти членами семьи, выстроить особенный московский клан на материале своего образования. И надо сказать, иногда это удавалось. Дядя Мамед, представитель Таджикской ССР при Верховном Совете Союза, водил меня на парад на Красную площадь, дядя Мамаджан, замечательный, кстати, человек из Горного Бадахшана, катал меня с друзьями на машине по всему Подмосковью, а профессор Агахи, один из лидеров Иранской компартии, читал наизусть Руми и Гафиза на фарси и тут же переводил на русский. Восточного колорита в моем детстве было предостаточно, я к нему относился абсолютно естественно, и в самаркандской чайхане чувствовал себя не хуже, чем в кафе-баре «Адриатика», куда, живя в Москве, часто забредал в поисках легкого флирта…
И вот один из таких не то чтоб друзей, но все-таки хороших знакомых – Тургун Рузиевич Рузиев, уже почтенный человек и даже доктор наук, совсем неподалеку, в Коканде, возглавлял местный Педагогический институт. Он узнал, что я в Азии, и решительно звал нас в гости. Домашние мои, понятно, просто мечтали, чтоб от сомнительной ташкентской компании мы мягко продефилировали к предсказуемому Тургуну и провели там, в прочных сетях азиатского гостеприимства, хотя бы месяц, а лучше два, а может и три. Тургун был рад-радешенек, мой приезд сулил ему блестящие перспективы по части любви и дружбы с мамой-профессором, но существовал нюанс. Ему нельзя было объяснить, зачем я, собственно, в Азии, и почему так надолго. И тогда матушка придумала блестящий ход. Она сказала, что я пробил себе полевые исследования с полным погружением и занимаюсь религиозными пережитками в быту строителей коммунизма. Это понравилось всем, и только двух вещей не мог понять Рузиев – отчего я с девушкой, и почему у меня так мало денег? Ну, про деньги я быстро придумал, мол, как получил в Москве командировочные, с друзьями все и пропил. Тургун, может, и осуждал в глубине души, и думал, какие все-таки русские идиоты, но виду не показал, принял версию. Обосновать Ксюшу было сложнее, но как-то и это замялось. В общем, мы поехали в Коканд, однако по обкурке предупредить Рузиева забыли. Или телефон не отвечал, кто теперь вспомнит…
Дорога там – красота невероятная, но недалеко, всего две с половиной сотни километров через перевал Кимчик, около трех тысяч над уровнем моря. Сейчас это великолепное четырехполосное шоссе, а тогда была узкая, нервная трасса, кое-где асфальт, кое-где грунт, голые горы, такие высоты, что дух захватывает. Машину поймали сразу, на выезде из Ташкента, узбек Нозим почти не говорил по-русски. Ну что ж, надо готовиться, Тургун заранее нас предупредил, что в бывшей столице Кокандского ханства русского населения почти нет, и по-русски далеко не все разговаривают. Особенно в окрестных кишлаках. К этому предлагалось отнестись с пониманием, улыбаться, и все тут. Если что, можно сказать, что мы гости, едем к Тургуну Рузиеву. Все поймут, и вопросов не будет.
Вопросов и не было. Раза три останавливались, шофер наш с кем-то разговаривал, нас угощали фруктами. Волнующая дорога, безумные горы, умопомрачительная Азия!
В Коканд приехали к вечеру. Пока мы называли адрес, никто ничего не понимал. Потом кое-как, на пальцах в основном, объяснили пожилому таджику, что мы ищем доктора Рузиева, и нас сразу привели на место. По дороге таджик рассказал, что в Коканде всего два доктора наук, и они друг друга ненавидят. Второй доктор был химик – плохой человек, с точки зрения нашего спутника. А каким он еще мог быть – ведь провожали-то нас к Тургуну.
Увы, дома никого не оказалось. Нашли ближайший автомат, позвонили, телефон молчал. Умом-то я понимал, что никакого подвоха быть не может, что Тургун Рузиевич неминуемо готов к нашему приезду, но все равно стало как-то неуютно. Мы прохаживались во дворе кокандской пятиэтажки, там, как потом мы выяснили, считалось очень престижным иметь квартиру в «новом доме», – вокруг ни единого прохожего даже с относительно европейским лицом, денег ни копейки, дело к полуночи. Ташкент казался отсюда потерянным раем.
Где-то к половине второго появился профессор Рузиев. Он вывалился из Волги, окруженный оравой пьяных учеников, сам совершенно в драбадан. Не существовало тогда еще там прочных исламских норм, явно не существовало. Профессор увидел нас, и тут же, укрепившись телом и духом, бросился к нам в объятия. «Как же так, – восклицал он, – как же вы не предупредили!», что же он теперь скажет Людмиле, моей маме то есть, как стыдно, как нехорошо…
Стыдно, понятно, ему не было ни капли, и очень хорошо, наверное, он тоже себя чувствовал. Бодро и решительно мы поднялись на третий этаж и вошли в квартиру. Каково же было мое удивление, когда нас встретила узбекская девушка лет девятнадцати, которая не говорила по-русски совершенно. Вообще не знала ни единого слова. Тургун несколько смутился, что-то такое бормотал невнятное, а потом посмотрел на меня решительно и заявил, что это его местная жена, Лия.
– Только, пожалуйста, – добавил он, с особенным выражением посмотрев мне в глаза, – не рассказывай маме.
Еще бы, не рассказывай, московскую жену с детьми он сам часто приводил к нам в гости и понимал грешным делом, какой мог выйти конфуз. Не знал он мою маму совершенно, ее б это только позабавило. Но Москва и наша семейная фатера на Дмитровском шоссе были далеко. А тут я не мог никак понять, почему Лия нам не открыла, когда мы звонили в дверь? И почему, тем более, не подошла к телефону? Однако и эта ситуация разрешилась просто. Оказывается, девушки на Востоке, когда одни, незнакомым людям дверь не отпирают. Это закон, он в крови. А к телефону не подошла, так как увидела в глазок, что мы русские, поняла, что это мы звоним, а по-русски-то она не говорит. Вот и застеснялась…
В общем, стол был мигом накрыт, на середине установили роскошное блюдо с уже дымящимся пловом, – как быстро был устроен этот плов, до сих пор для меня загадка, – и несколько чайников с разными чаями: зеленый чай, черный чай, чай с какими-то горными травками, просто горные травки без чая, предлагая мне которые, Тургун смотрел как-то особенно выразительно. И, понятно, водка.
Стали мы есть и пить, Лия прислуживала, Тургун внимательно следил, как мы употребляем плов. Мы употребляли, только я никак не мог расслабиться; в самой гостиной, где мы сидели, что-то было не так. Вроде бы вполне типичная советская интеллигентская обстановка – серванты, книжные шкафы, – но оформилась какая-то неправильность, смещенность, из-за которой как бы было немного стыдно. Хотя, вроде бы, не с чего. Я даже поглядывал на Ксю – понимает ли она, где в этой позиции ошибка? Но Ксюше, кажется, было по барабану, очень вкусный плов, а не ели мы ничего, кроме фруктов, дня полтора. Запиваешь горячим чаем, и исключительное блаженство. Наконец, меня осенило, какая странность обстановки мешает мне расположиться вальяжно и чувствовать себя естественно, – кроме молчаливой азиатской красотки, разумеется… Однако не в Лие было дело.
Со всех стен на меня строго и внимательно смотрели портреты Тургуна Рузиевича Рузиева, и вместе с балагурящим хозяином, подкладывающим плов и разливающим водку, это составляло совершенно фантасмагорическую картину.
Меж тем мы проели в плове достаточно глубокие ходы и насытились до отвала. Ксюша задремала, но меня Тургун не отпускал. Ешь, требовал он, ешь. Подливал чаек и разливал водку. Я думал, что умру, но сбежать не было никакой возможности. Я уж тридцать раз сказал, что мы сыты, что мы устали с дороги, что нам бы поспать, но кокандский профессор оставался непреклонен. В конце концов, он надо мной сжалился и тоже склонился над пловом. В общем, не знаю как, но к утру мы добили блюдо. И тут я понял, зачем мы так страдали. На блюде красовался восхитительный портрет Тургуна Рузиевича Рузиева в халате. «Хороший портрет! – воскликнул он и мутно улыбнулся. – Очень хороший портрет. Местный мастер делал. У него в роду с семнадцатого века мастера. У вас таких нет. Персидская культура»…
Все, теперь можно было спать. Лия постелила нам в барской спальне, на высокой кровати с золочеными спинками и балдахином. Такие кровати до той поры я видел только в музее, и с тех пор, на самом деле, видел только в музее. Мы утонули в перинах и забылись тяжелым сном…
…Вся неделя в Коканде прошла в чаду глубокого полевого изучения мусульманской культуры. Тургун устроил мне встречу с муллой по обмену опытом, при этом представил меня молодым православным священником, только забыл предупредить. Получилось смешно.
Мы ходили в махалля и общались со старейшинами. Старейшины рассказывали о великой силе традиции, хотели обратить нас в ислам и попрекали тем, что мы не женаты. Зачем мы сознались, я до сих пор не ведаю.
На две ночи нас поселили в старинной медресе, в ту пору приспособленной под музей, и мы спали в полуоткрытом отсеке, отгороженном от внешнего мира красивой решеткой, представляя себе картины, которые разворачивались здесь в эпоху Кокандского ханства. Особенно странно было трахаться под утро почти на открытом воздухе, слушая звуки и вдыхая запахи просыпающегося азиатского города.
Но самое главное, нас кормили. Тургун приезжал и вез нас на обед, плавно перетекающий в ужин. Когда и что он преподавал в своем пединституте, одному Аллаху известно. Он властвовал над этим городом, и этот город лежал у его ног. К концу недели нам трудно было ступить и шаг, чтоб нас не зазывали перекусить, попить чаю, поговорить о Коране. Каждый кокандец старше тридцати нас узнавал, и мы пользовались невероятной популярностью. При этом на Ксюшу изо всех сил мужики старались не глядеть плотоядно, получалось у них плохо, но мы высоко ценили их усилия.
Через неделю стало ясно, что нужно валить, или конец всему. Ташкент – дом родной, еще пару месяцев мы там провели. У Тимура случился роман с Ксюшей, у меня – с Диной. Сеня грустил и страдал, но не подавал виду. Мы бесконечно курили траву, слушали музыку, плавно перетекали с одного флетарика на другой. Теперь больше жили у Тимура, познакомились даже с его отцом, он возил нас на Иссык-Куль на двух служебных тачках, было круто. Потом все-таки скатали в Долину, а оттуда уже, простившись с друзьями, рванули на север. В Магниторске нас ждал Даня Димент, мой днепропетровский товарищ, прекрасный художник, работавший в тамошнем кукольном театре. Лучшем в Европе, между прочим, к началу восьмидесятых годов.
В Магнитогорске я устроился рабочим сцены, а Ксюша стала писать какие-то репризы для взрослых спектаклей. Главный режиссер этого театра считал себя учеником Вахтангова и хотел скрестить «Принцессу Турандот» с искусством кукольника. Получалась прикольно. В конце концов, Ксюша осталась при режиссере, а я вернулся в Москву.
– А дальше-то что, дальше? – прикололся Игорь, который, разумеется, слышал эту байку в тысяча первый раз.
– Что дальше? – ответил Толик. – Я несколько раз еще в Азию съездил, даже у бая одного потолок белил как-то между Самаркандом и Бухарой, а потом взял, да и переехал из Москвы во Владимир. Родители мне комнату выделили, а я ее поменял на владимирскую квартиру. И не жалею. Теперь все больше на юго-запад катаюсь, в Северную Африку. Вот в этот сезон дождей думаю в другую пустыню отправиться, в Сахару. Азавад, Тимбукту, Таманрассет, туареги. В общем, в Мали, Мавританию и Сенегал. Правда, там тоже война идет. Так что это не проще, чем в Афганистан, но везде можно путешествовать…
…Толикова история удивительным образом срифмовалась у меня с героической историей Семевского. Вот одна эпоха, вот другая, между ними, казалось бы, никакой связи. Совсем иные герои, совсем иные поступки, иная логика. И мне еще острей захотелось, чтоб у меня была моя собственная азиатская эпопея, чтоб она оказалась не похожа ни на какую другую. Итак, пусть это будет маршрут вокруг Каспийского моря, но с большим крюком на Восток. Хорошо было бы заехать в Туркмению. Если нет, что ж делать, придется двигать через Афганистан.
Так думал я ранней весной в Москве. Маршрут оказался совсем другим, и вообще, все вышло иначе, чем я мог предполагать. И вот май, сижу здесь, в Тегеране. Мой путь наполовину пройден, и я побывал в Персии, куда, по понятным причинам, не могли заехать ни Семевский, ни мой новый владимирский товарищ тогда, в прошлом веке, в прошлом эоне.
V. Хитроумный Саид убеждает меня стать ученым
С туркменской визой все вышло точно так, как обещала Аржанцева. Выяснилось, что обычную они вообще не дают, только по специальному приглашению, или пожалуйста, извольте на могилку к родственникам. Приглашающих местное КГБ проверяет так, как Сталину и не снилось. Родственников в Туркмении у меня сроду не было. Так что тут никаких шансов. Единственно, на что я мог рассчитывать, это на транзитную визу.
История с транзиткой больше всего походила на старый советский анекдот про дефицит в олимпиаду 80-го года. Поначалу они просили иранскую визу. Иранцы дали ее безо всякого напряжения с ними вообще скоро безвизовый режим введут. Принес ее туркменам, туркмены удивились, но виду не подали. Стали требовать справки, одну за другой. Я доставал их с упорством, достойным лучшего применения. И, наконец, когда никаких справок придумать больше было невозможно, попросту отказали. Для выяснения причин надо было ждать письменного ответа из МИДа месяца три, не больше.
…В тот вечер у меня появился Саид. Мы презентовали наш новый кальянный табак «HOOKAH CIGARS ORIGINAL», и где-то ближе к концу славного вкушения табачного дыма в клуб вошел человек, казалось бы, совершенно из другой жизни. Сразу возникло впечатление, что он явился сюда, в московскую суету, сойдя с классической персидской миниатюры. Высокий, с обветренным в боях лицом воина, очень цепким, жестким и при этом веселым взглядом кажется, сейчас натянет лук и поразит любого врага, – он принес с собой дух Азии, верней, того, что я сам хотел увидеть в Азии.
– Ирина Аржанцева велела мне с вами познакомиться, – он безошибочно выделил меня и встал за правым плечом, у барной стойки.
Я что-то еще вещал несколько минут, Саид внимательно слушал. Как только я закончил, он тут же перешел к делу и на «ты»:
– Не дали визу туркмены? Вот сволочи. Теперь через Афганистан? Это хорошо, лучше через восток ехать, у меня на родине побываешь. Там красиво. Потом Балх увидишь, где Заратустра родился, Бамиан, где талибы Будду взорвали. Читал, наверное?
Я читал, знал и даже думал уже об Афганистане. И почему-то сразу доверился Саиду. Вообще-то, мне такая доверчивость не свойственна. Может быть, рекомендация Аржанцевой так подействовала, но тогда я вдруг подумал, что мало кто из людей на этой земле так же близок мне, как этот азиатский парень. И я решил: как скажет, так и сделаю.
Постепенно обозначилось множество забавных подробностей. Саид вырос на берегу Пянджа. Каждое утро он выходил к реке и смотрел на Афганистан. Когда он был маленьким, там шла война. Два его старших брата остались на другом берегу неизвестно, погибли или ушли к моджахедам. Но это вряд ли…
С Афганистаном у Саида связано полжизни, хотя он с четырнадцати лет в России. Во-первых, он не таджик, а ваханец, исмаилит, из очень почтенного, по местным меркам, рода. Прадед его по имени Джафар, кади и богослов, учился в Кабуле. В свое время он был знаменит на весь Памир тем, что знал язык птиц. С этим связана целая история.
В начале ХХ века подружился бадахшанский кади с одним орнитологом, а по совместительству доктором из России. Алексей Михайлович Дьяков приехал на Памир в экспедицию, а заодно и устанавливать Советскую власть. Лучшего специалиста по птицам, чем Джафар, ему было не найти. С Дьяковым они обошли пешком почти весь Афганистан, бывали в Нуристане и Герате, в Кандагаре и Нангархаре, дружили с богословами, поэтами и старейшинами пуштунских племен. И тут я понял, насколько мир тесен. Я знал историю Алексея Михайловича Дьякова. Тот же Игорь когда-то рассказывал мне об этом человеке. Дьяков был лагерным другом его деда, отмотавшего двадцать лет за «шпионаж в пользу Польши». Уже в 50-х годах он стал знаменитым востоковедом, крупнейшим советским специалистом по Памиру и Афганистану. Жил в Челюскинской, под Москвой. Вся веранда его огромного дачного дома была заставлена клетками с птицами. Утром он выходил и с ними здоровался. Птицы отвечали ему на десятки ладов.
В детстве Игорь пару раз ходил с ним в лес. Это могло свести с ума. Дьяков что-то насвистывал и сразу несколько птичек садились к нему на руку. Дальше сказывалась сказка. Он им говорил, они ему отвечали, каждая по очереди. Игорь был совсем мальчишкой, и ему казалось, что в эту минуту он тоже начинает понимать птичий язык. Птицы ничего не боялись, щебетали, общались, а потом раз – и одновременно улетали.
Дьяков так и запомнился ему – большой лысый старик в старомодном пенсне, четыре птицы сидят у него на руке. Еще две летают кругами над ним… Удивительно крепкая порода была у этих людей, но время и над ними имело власть. Все предгорья Гималаев человек исходил пешком, плюс десять лет лагеря. С птицами говорил, а с дочерью общего языка найти не мог. Когда ему было далеко за 70, он погиб в автомобильной катастрофе. Говорят, где-то остались его воспоминания. Издать их в советское время было невозможно. Дочь пропила рукопись, продала за гроши какому-то коллекционеру.
На самом деле, я не очень люблю такую ситуацию, когда параллельные линии сходятся. Саид оказался правнуком друга Игорева деда. К тому же еще его отец – чемпион Таджикистана по шахматам. Узнав об этом, на мгновенье я почувствовал себя фигурой в чьей-то большой шахматной партии. Эта мысль мелькнула у меня в голове, но я тут же ее отогнал чушь какая-то, дурацкая мистика. Пока мы в Москве, в мусульманский фатум не верим.
К тому же и Саид отвлек, очень интересно рассказывал – то о себе, то об Афганистане.
– На Пяндже лучшие в мире яблоки, а в Афганистане – пыль. Река – граница миров. Только там понимаешь, чем был Союз со всей его пофигистикой для Востока. Чтоб они сейчас ни говорили о колонизаторах. Это нам кажется, что Таджикистан, Бадахшан – бедные, работы нет, денег нет. Для афганцев Хорог, как для таджиков Москва, а для нас – Нью-Йорк. Сам Афганистан очень разный. И по природе, и по местным нравам. Мазари-Шериф – древний город, голубая мечеть, белые голуби, и там безопасно. Зато очень жарко. В Кабуле в смысле погоды рай, но два миллиона жителей, грязь, пыль. Но Бабур, основатель империи Великих Моголов и автор прекрасной книги «Бабурнамэ», завещал себя похоронить именно здесь. Больше всего на земле любил это место, а дошел из Центральной Азии до Индии.
«Натовцев» в Афганистане ненавидят. К русским, то есть к шурави, относятся либо с явной приязнью, либо со сдержанным уважением. «Вы, – говорят, – воевали с нами, как мужчины».
Но это ничего не значит. Все, что угодно, может случиться неожиданно и быстро. Власти совершенно не контролируют провинцию. Ночью они не контролируют и дороги. Днем повсюду блокпосты. Проехать можно, но с сопровождением. Сопровождение Саид найдет. У его родственников много друзей. Среди них даже есть старые солдаты Ахмед Шаха Масуда, которого прозвали панджшерским львом. Но южнее лучше отыскать кого-то из пуштунов. Никогда не говори, что ты «сафар» – путешественник, говори, что ты «махмун» – гость. Подумают: чей гость? – и будут осторожней. К тому же традиции гостеприимства, особенно у пуштунов, священны. Правда, почти сорокалетняя война подточила и их. Не знаешь, наверное? Короля свергли в 1973 году. С тех пор страна воюет. Воевали между собой, воевали с вами, теперь воюют с «натовцами» и опять между собой. Из 28 провинций только в 10 относительный мир. Зато дороги в Афганистане бывают хорошие. Бывают и очень плохие, правда автомобилей не так много, и там где асфальт, там асфальт. Главная асфальтовая дорога АН76 идет как бы кругом, от Мазари-Шерифа на Герат. Можно в Иран проехать и через Кабул, по АН77. Но Герата не избежать. Герат контролирует Исмаил-хан, или как его еще называют, Туран Исмаил. Он старый уже человек, дрался и с вами, и с Талибаном, и с нынешним Кабулом. Мой единоверец, исмаилит. Ближе к иранской границе вообще живут шииты и исмаилиты. Так что надежного человека тебе мы найдем. Афганистан – опасное место, но очень интересное. Совсем другая планета, тебе понравится, – и с этими словами Саид испытующе посмотрел на меня.
– Понимаешь, – надо было как-то отвечать на этот длинный и страстный монолог, – я боюсь, что Афган – совсем другая история. Я еду в Азию, потому что меня влечет пустыня, Каспий, древняя персидская культура, оазисы. Тимур, наконец, мавзолей которого меня потряс, когда я летал в Самарканд. А тут свои темы, свои герои и, даже если брать седую древность, больше индийский мир, память о буддизме, ну и так далее. И еще, конечно, война, которой я вообще не хочу касаться. Не хочу никакой политики.
Саид меня понял.
– Значит, ты оставил Афган на самый крайний случай. Хорошо, тогда я знаю, как убедить туркмен тебя пропустить. Им нужна какая-то важная официальная бумага про науку. В Азии с древности очень уважают науку, иногда не меньше, чем армию. Ты должен стать ученым… Главное, что с афганской визой проблем нет. Ее ты всегда сможешь получить в Хороге за один день и сто долларов…
…Про ученого был блестящий совет. Азиаты со времен Улугбека уважают науку и любое знание. Даже во время Гражданской войны, если в плен к басмачам попадал человек, называвший себя ученым или учителем, они его никогда не мучили, убивали сразу. А иногда и отпускали на все четыре стороны.
Я придумал, как стать ученым, и вступил в Российское географическое общество, чтоб получить туркменскую визу. Что ж, это еще больше связало меня и с Семевским, и с Гумилевым, имевшим к этому обществу самое прямое отношение.
…Когда я принес в туркменское посольство большую бумагу с печатью и тремя подписями, где было черным по белому начертано, что такой-то такой-то просит разрешения пропустить через территорию гордого и в высшей степени нейтрального Туркменистана великую географическую экспедицию на мотоциклах, равной которой за последние пятьдесят лет не было, посольские просто выпали в осадок. Даже у тамошних гэбэшников, видимо, кончились аргументы.