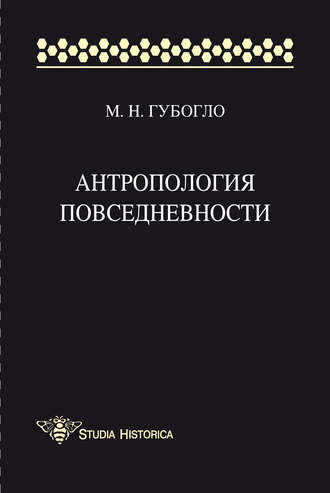
М. Н. Губогло
Антропология повседневности
Ошалев от полуметрового казахстанского чернозема и дармового леса, – пишет с явной симпатией об адаптивной энергии репрессированных кулаков А. П. Чудаков, – «скоро все они обстроились добротными пятистенками с глухими бревенчатыми заплотами на сибирский манер, завели обширные огороды, коров, свиней и через четыре-пять лет зажили богаче местных». Продолжу цитату: «Что вы хотите, говорил дед (А. П. Чудакова. – М. Г) – цвет крестьянства. Не могут не работать. Да как! Вон что про Кувычку рассказывают.
Старший сын старика Кувычки, рассказывал его сосед по воронежской деревне, когда, женившись, отделился, получил три лошади. Вставал затемно и пахал на Серой. Когда она к полудню уставала, впрягал в плуг Вороного, который пасся за межой. Ближе к вечеру приводил Чалого, на коем пахал до темна. Через два года он уже считался кулаком.
– А чего же этот цвет в колхозе ни черта не делает?
– Ас какой стати? Кто такой кулак? – дед поворачивался к Антону [литературный образ самого автора романа], который всегда слушал, широко раскрыв глаза, не перебивая и не задавая вопросов, и дед любил адресоваться к нему. – Кто он такой? Работящий мужик. Крепкий. Недаром – кулак, – дед сжимал пальцы в кулак так, что болели косточки. – Непьющий. И сыновья непьющие. И жен взяли из работящих семей. А бедняк кто? Лентяй. Сам пьет, отец пил. Бедняк в кабак, кулак на полосу, дотемна, до пота, да всей семьей. Понятно, у него и коровы, и овцы, и не сивка, а полдюжины гладких коней, уже не соха, а плуг, железная борона, веялка, конные грабли».
Официально национализированное имущество кулаков должно было передаваться в фонд новообразованных колхозов. Коллективизация в Молдавии, в том числе в южных районах, к началу 1949 г. практически захлебнулась. Кулаки и середняки в колхоз не шли. И те, кто раскулачивал, рекрутировались из бедняков и люмпенизированных слоев крестьянства. И история с имуществом кулаков в районах Южной Молдовы повторялась с завидным сходством с тем, что ранее происходило в других регионах Советского Союза.
Раздел IV
О роли профессиональной культуры в формировании гражданской идентичности
1. Книгомания: погоня за призраками или вызовы мобилизации?
Телевидение и интернет, рыночная экономика и время лишили на рубеже столетий население России почетного звания «самый читающий народ в мире». И судя по тому как закрываются библиотеки или переводятся в электронный формат некоторые многотиражные в прошлом газеты, вряд ли можно надеяться на возвращение нынешним и завтрашним россиянам того самого почетного звания. Вместе с угасанием чтения книг, особенно классической литературы, убавил «обороты» важный фактор, способствующий в советские времена формированию гражданского достоинства и патриотического отношения к Отечеству.
Между тем в памяти взрослых поколений, завершающих десятилетия XX в., сохранились воспоминания о чтении книг в первые послевоенные годы.
Книгомания послевоенного детства не прошла мимо Владимира Высоцкого, вдохновившего его, взрослого и талантливого поэта, по истечении сорока лет после окончания Великой Отечественной войны на пронзительные признания в его знаменитой «Балладе о борьбе» о «книжных днях», «глотающих книги» и «пьянеющих от строк».
Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от детских своих катастроф.
Детям вечно досаден
Их возраст и быт
И дрались мы до ссадин,
До смертельных обид.
Но одежды латали
Нам матери в срок,
Мы же книги глотали,
Пьянея от строк.
[Высоцкий 1975]
Я умел читать еще до поступления в школу. Этому меня научили моя мама и проживавшая в нашем доме до депортации моя двоюродная сестра Дан Варвара Георгиевна (дочь старшей дочери моего деда). Мне уже приходилось рассказывать, что при депортации в 1949 г. две детские книги «Чук и Гек» и «Дальние страны», взятые мной из Чадыр-Лунгской библиотеки, оказались со мной сначала в с. Сухановка, потом в с. Тамакулье Курганской области.
Однотомник избранных произведений Т. Гайдара я вернул Чадыр-Лунгской библиотеке через много лет вместе с несколькими своими опубликованными к тому времени книгами.
Немного в иной, полусерьезной и полушутливой окраске и упаковке (без Буджакского «зла» и без Тамакульско-Каргапольской «любви») преподносил обычаи применения ненормативной лексики в молдавском селе классик молдавской литературы Ион Друцэ. Приглядимся к изображению соответствующей ситуации в его знаменитом романе «Бремя нашей доброты», излагающем события в послевоенном молдавском селе Чутуря, что когда-то возникло в бескрайней Сорокской степи.
Литературный герой Иона Друцэ Костаке Михай, старый возница, когда
…проезжал мимо двух домиков братьев Морару, увидел посреди дороги чумазого мальчика, сгребающего пыль в кучки. Мальчик был юркий и носил такую короткую рубашку, что немыслимо было ошибиться, относительно его пола. Его двоюродный родственник сидел на заборе и ждал, когда братика переедет телега. Костаке Михай не знал, какие у них счеты, а кроме того, опасался за свою старую и дряхлую телегу. Потому-то он и остановил лошадку, крикнул чумазому, чтобы убрался побыстрее с дороги, но тот сказал сердито, не оборачиваясь: «не хопу».
Костаке Михаю ничего не оставалось, как спрыгнуть с телеги, взять его подмышки и поставить у ворот с таким расчетом, чтобы стоял он там долго и смирно. Но когда Костаке Михай возвращался к телеге, услышал за своей спиной популярное молдавское ругательство, в котором речь шла об определенных отношениях между этим карапузом и давно усопшей матерью Костаке Михая [Друцэ 1977: 455–456].
Нельзя без смеха и некой доли горечи и грусти читать эти строки, и далее, без сожаления, их продолжение.
…Костаке Михай знал, да и сама Чатура знала, что ругаются решительно все. Наиболее трусливые ругаются про себя, другие – чуть слышно, под нос, и только сильные натуры, люди, знающие себе цену, ругаются во весь голос, если что не так [Там же: 456].
В повседневной жизни всегда есть место выбору. Хотя периоды жизненного цикла нередко определяются помимо воли человека. Итак, на склоне лет, пожалуй, я впервые четко осознал, что мне мало меня. Эта мысль возникла из понимания трех моих едва ли не основополагающих качеств: эгоизма, романтизма и необузданного трудоголизма, которые в то же время сочетаются или неразрывно связаны с неистребимой ленью, постоянно преследующей инфантильностью, как недостатком, и последовательным служением своему духовному росту. Мои инфаркты, как я понимаю, стали итогом гордыни: успеть! успеть! успеть! Это не смешно, это обидно и требует осмысления.
Имеет смысл пояснить, что недостаток, проявляющий себя в веренице событий и хронике повседневной жизни, представляет собой, как считают философы, «социально-бытовой термин», определяющий утилитарное отношение человека к окружающей среде или общественного мнения к самому человеку. В отличие от порока, как этической категории, греха, как религиозного термина, и свободы, как психофизической интенции, недостаток представляется гораздо более заземленным понятием. Бабушка любит внука безусловной любовью за сам факт его существования. Дедушка тоже любит внука, но не только за его достоинства, ниспосланные судьбой и генами, и за успехи и текущие достижения. Эгоизм и гордыня с особой наглядностью проявляются в том, что значительное большинство людей хотят быть любимыми безусловной любовью, но сами предпочитают любить рационально. Однако безусловная любовь не сводится только к бабушкиной любви к внуку.
Нередко она настигает взрослеющего человека помимо его воли. Примеров тому несть числа. Особенно в русской литературе. В качестве выхода предлагается воспринимать безусловную любовь как выбор. Кому-то нравится запах спелой айвы, а кому-то цвет или вкус спелой вишни.
Первой такой моей безусловной любовью стала охватившая меня страсть к чтению, страсть, которая родилась из иррациональной тяги к чтению и превратилась в дар судьбы, во многом определившей течение последующих жизненных циклов. Эта страсть, доводившая некоторых моих сверстников тогда, в 1950-е гг., до исступления, стала причиной второго социального переворота (если первым считать депортационное путешествие), случившегося в моей душе, когда из Тамакульского «болота» с его ненормативной лексикой и блатной частушкой, я перешел в Каргапольскую «крутизну», открывшую путь в великую художественную культуру России.
Я затрудняюсь сказать, что именно во мне пробудило страсть к чтению. Но эта жажда уже охватила еще во втором классе. Я полюбил книги какой-то ненасытной любовью. Книги читались без какой-либо системы, запоем.
Своей привязанностью к книгам многим я обязан сначала Чадыр-Лунгской, а затем Каргапольской районной библиотеке. В первой из них в пору зарождения моей книгомании царила или, лучше сказать, парила одна из легендарных гагаузских женщин Елена Семеновна Генова. Прежде чем стать директором районной библиотеки, она прожила удивительную для гагаузской женщины жизнь. Окончив в Москве Институт востоковедения, она проработала несколько лет в Советском полпредстве Саудовской Аравии, позднее – служила переводчиком в пограничных войсках СССР, заведовала кафедрой турецкого языка в Высшей школе НКВД [История и культура гагаузов… 2006: 314]. Трудно сказать, сколько гагаузских детей обязаны ей любовью к книге и к чтению. Флюиды обаятельной вальяжности и необычной для Чадыр-Лунги ауры интеллигентности притягивали к ней, и малолетние читатели толпами устремлялись в библиотеку, желая во чтобы то ни стало понравиться ей и заслужить ее похвалу.
После окончания уроков в маленькой двухэтажной школе из красного кирпича, что находилась через дорогу напротив нашего дома, в котором я родился, я шел не домой, а устремлялся к Елене Семеновне, из бывшего села Трашполи в нынешний город Чадыр-Лунгу Сначала пробегал мимо нескольких богатых домов на центральной улице, затем мимо цыганского анклава, пересекал мост через речку Лушу, далее шел через железнодорожное полотно и попадал на площадь, где еще не было здания, ставшего впоследствии райкомом партии. На этой площади в 1950–1980-е гг. проходили первомайские и иные праздничные парады и митинги. Этот мой «книжный» маршрут был прерван после окончания 2-го класса в пору летних каникул накатившейся на Чадыр-Лунгу, подобно цунами, депортапионной трагедией.
Пристрастие к чтению не может окончательно угаснуть, пока сохраняются усилия по охвату жизненных явлений, или коренится желание не забывать прошлое, а время от времени встречаться с ним. Подробнее о прошлом и памяти о нем речь пойдет ниже на примере произведений художников Гагаузии.
В юном Иване Бунине любовь к книгам пробудил его старший брат Юлий, хорошо эрудированный, активный участник общественной и политической жизни. Сергею Тимофеевичу Аксакову пристрастие к чтению пришло от принятых в дворянской семье совместных чтений по вечерам. В автобиографической повести «Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением семейной хроники» Аксаков подробно рассказал о генезисе своей страсти к чтению.
Немалую роль в возгорании этой страсти у малолетнего Аксакова сыграл сосед С. И. Аничков, просвещенный русский интеллигент, в свое время делегированный депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериной Второй для анализа существующих законов. Именно он подарил мальчику связку книг, в том числе «Детское чтение для сердца и разума» в двенадцати частях.
Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моего сокровища, – вспоминал позднее, на склоне лет, С. Т. Аксаков, – я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть – и позабыл все окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал матери все происходившее у Аничкова, она очень встревожилась… Меня отыскали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно помешанный; ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать… После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера… Я читал эти книжки с восторгом и, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с небольшим в месяц. В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир [Аксаков 1984: 231–232].
Страсть к чтению сохраняется у некоторых ученых на протяжении всей жизни. До сих пор выдающийся российский ученый, этнограф и философ – Юрий Иванович Семенов – мой коллега, – автор ряда фундаментальных исследований, вошедших в золотой фонд отечественной этнологии, входит в мой служебный кабинет в Институте этнологии и антропологии РАН, и внимательно рассматривает книги, лежащие на столе, и тут же принимается перечислять, показывать иные из них и рассказывать о новейших изданиях. У меня всегда в таких ситуациях возникало ощущение, что некоторые тексты он читает не словами, не абзацами, а мгновенно схватывает суть всей страницы.
После окончания начальной школы в с. Тамакулье, где, наряду с адаптацией к местной разгульной речевой практике, я, похоже, начал различать две разные речевые стихии – местную-бытовую и школьно-каргапольскую литературную… Чтение книг в 5–6 классах обернулось новой волной иступленной страсти. Легко запоминались стихи, рассказы, содержания коротких повестей и длинных романов. Будучи уже накануне подросткового возраста, я влезал на табуретку и декламировал: «Летней ночью на рассвете, когда мирно спали дети, Гитлер дал войскам приказ, это значит против нас» и от слезливых слушателей и слушательниц получал аплодисменты, пряник, печенье или конфету. Каждое лето, будучи переведенным в другой класс, я с нетерпением ждал, когда в книжный магазин привезут новые учебники. Я млел от типографской краски, от запаха новых учебников и еще до начала занятий успевал перелистать даже такие учебники, как «Алгебра» Ларичева, «Физика» Перышкина и все остальные учебники – от «Ботаники» до «Истории СССР», подготовленной под руководством академика М. Панкратовой. Взрослым я уже хорошо понимал И. А. Бунина, воспевшего свою любовь к книгам, «один вид которых давал ему физическое наслаждение».
Читая запоем все, что подвернется под руку, доставая те или иные книги повсюду, я, понятно, получал удовлетворение от самого процесса чтения и от уподобления себя тому или иному героическому или положительному литературному герою. Например, вырабатывал походку, подобно Григорию Александровичу Печорину: ходить, не размахивая руками. Не подозревая, что мне самому когда-либо придется писать об увиденном или прочитанном, я сызмальства любил покупать книги. В этой связи вспоминается страсть к чтению и книгообретению, о которой вспоминал Н. А. Добролюбов. Так, например, однажды, вернувшись домой от нижегородского книгопродавца, библиотека которого восхищала мальчика, он записал на клочке бумаги:
О, как бы я желал такую способность иметь,
Чтоб всю эту библиотеку мог в день прочитать.
О, как бы желал я огромную память иметь,
Чтобы все, что прочту я, всю жизнь не забыть.
О, как бы желал я такое богатство иметь,
Чтобы все эти книги себе мог купить.
О, как бы желал я иметь такой разум большой,
Чтобы все, что написано в них, могу другим передать.
О, как бы желал я, чтоб сам был настолько умен,
Чтоб столько же я сочинений мог сам написать.
(Цит. по: [Жданов 1961: 23])
В этих корявых стихах, написанных экспромтом, когда Добролюбову было 14 лет, говорится не только о неутомимой страсти к чтению, но и о том, что чтение дало импульс несостоявшемуся священнику (на что надеялся его отец) для выбора своей судьбы – судьбы выдающегося литературного критика, своими трудами во многом повлиявшего на развитие русской реалистической литературы.
Трудно переоценить значение литературного чтения в воспитании патриотизма и гражданской идентичности. Художественная литература прививала навыки ощущения времени, гордости за историю и героев своей страны. Литература конструировала сопричастность читающей молодежи к предкам и современникам, формировала мировоззрение, окультуривала взгляды на жизнь. Сопричастность своему народу, стране и государству становилась духовной опорой нравственности, межличностной солидарности и персональной ответственности. В пору поствоенной повседневности школьная молодежь не задавалась вопросом, написал ли сам М. А. Шолохов «Тихий Дон». Она знала, что этот роман, удостоенный Нобелевской премии, написал он.
В воспитании патриотизма советских воинов, одержавших победу над сильным врагом в годы Великой Отечественной войны, немалую роль сыграла литература, освоенная в детстве и в молодые годы. Это хорошо понимал Владимир Высоцкий:
Если пут прорубая отцовским мечом
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал что почем,
Значит, нужные книги ты в детстве читал.
[Высоцкий 1975]
Сегодня художественная литература, особенно классическая, как часть культурного наследия и достояния народа, теряет массового читателя подобно тому, как кино теряет своего зрителя. Повторюсь, что неумолимо уходит в историю почетное звание советского народа, как «самого читающего народа в мире».
Я совсем не хочу сказать, что время 1940–1950-х гг. было лучше, чем два десятилетия на рубеже веков. Однако довоенная и поствоенная повседневность вместе с победой, одержанной в Великой Отечественной войне, породила нравственно цельное поколение художников, подаривших Советскому Союзу и миру «деревенскую», «городскую» прозу и «военные воспоминания» и литературу. Едва ли не редким исключением являются «фрагменты воспоминаний» в книге академика Ю. А. Полякова и автобиографический роман А. П. Чудакова, каждую из которых я прочитал, как в детстве, за одну ночь. Без риска ошибиться, можно сказать, что сегодня, на заре нового тысячелетия ничего похожего на «деревенскую» или «городскую» литературу не наблюдается в основных направлениях современного литературного процесса. Тем более актуальной и востребованной видится поставленная выше в данном издании задача по выявлению и анализу этнокультурных параллелей в поствоенной повседневности, складывающейся после побед, одержанных императорской Россией над Наполеоном и Советским Союзом над Гитлером. Важным источником для сравнения могут служить важнейшие направления в русской литературе, в том числе классицизм, сентиментализм, романтизм и реализм в XIX в. и их сполохи в литературном потоке середины XX в.
На смену классицизму (А. Д. Кантемир, В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, М. М. Херасков, Я. Б. Княжнин, М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин) и сентиментализму в первое десятилетие XIX в. пришел русский романтизм, сложившийся «на полях Отечественной войны 1812 г.» и проявивший себя особенно заметно как «гражданский романтизм декабристов». В своих «Думах» декабрист Рылеев, открывший в русской поэзии тему поэта-гражданина, сумел едва ли не впервые представить две идентичности – гражданскую и тендерную в одном лице: «Она (жена литературного героя Войнаровского. – М. Г) могла, она умела Гражданкой и супругой быть» [Рылеев]. В середине и второй половине этого же столетия романтизм сменился реализмом.
И хотя было бы неправильно представлять, что литературные направления последовательно сменяли друг друга без борьбы и конфликтов, они в той или иной мере отражали особенности социально-культурной обстановки и динамику общественно-политической обстановки. Сентиментализм в лице своих выдающихся представителей (Н. М. Карамзин, ранний Жуковский, Дмитриев) едва ли не первое литературное течение, в предметной области которого выдвинулось на передний план изображение повседневной жизни человека из социальных низов, в отличие от предшествующего классицизма, сторонники которого ориентировались больше на изображение правящих и господствующих элит, на прославленных героев, чем на крестьян и ремесленников. Одна из функций сентиментализма состояла в возвышении личности, в изображении частной жизни, душевных порывов простого человека, незыблемой ценности домашнего очага и семейных отношений, преданности родным и близким. Дальние отзвуки раннего сентиментализма начала XIX в. проявились и в «деревенской литературе» второй половины XX в., хотя и несли в себе заряд аполитичности, не противоречили укреплению сопричастности к народной культуре и отечественной истории, обездоленной послевоенной деревни, все воплощалось в живописи или становилось поэзией: далекие горы, древние предки, далекие обстоятельства. Приобщение к романтике дорог и дальних стран происходило на основе приоритета разума над чувствами. В итоге сама повседневная жизнь и чтение порождало двоемирие, что находило свое выражение в сосуществовании мира реального и мира виртуального, созданного воображением.
Сельским школьникам, беспаспортные родители которых были привязаны колхозным режимом своей деревне и своему колхозу, импонировал конфликт романтической литературы между личностью, стремящийся к свободе, и средой обитания, между высокой мечтой и низким материальным миром.
Рост национального самосознания и гражданского достоинства под влиянием одержанной победы во время войны 1812 г. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. способствовал отражению романтизма. Романтики одними из первых обнаружили конфликт между обыденной жизнью и мечтой. При этом одна часть романтиков (В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, Е. А. Баратынский) уходила в мир сладких грез и мечтаний, иногда грустных, другая уходила из повседневности в мечты о лучшем будущем (К. Ф. Рылеев, М. Ю. Лермонтов). Романтикам принадлежит инициатива обращения к истории (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов) происхождения русского и других народов. Преодоление замкнутости обыденной жизни вместе с романтиками XIX в. воспринимали и воображали себя победителями сельские школьники середины XX в.
Особый вклад в изучение отдельных аспектов повседневности внесли художники, представляющие реалистическое направление русской литературы XIX в. Ей принадлежит приоритет художественного изображения общественной среды и ее влияния на обыденную жизнь и на становление характеров людей. Среда формировала человека, а человек в свою очередь оказывался способным изменять среду. Нерв реалистической литературы, усваиваемый по школьным программам и внешкольному чтению, вел к осознанию того, что за основу жизни и постижение ее смысла берется не внешний мир и даль светлая, не исключительное, а повседневность в ее исторической динамике.
Сегодня, в первое и второе десятилетие нового века, чтение книг, выписывание журналов, обсуждение дома и на работе прочитанных произведений – сменяется «хождениями по Яндексу, Гуглу», по каналам телевидения, чтением и в отдельных случаях просмотрами романов Л. Н. Толстого, сокращенных до десятка страниц. Без чтения книг наступает безрадостное существование без юмора, без шуток, дополняющих смысл человеческого существования. Откуда берется энергия радости жизни? Сказано: не хлебом единым. Энергия дается человеку под надежду, под задачу, под цель. Большая цель способна, как говорится, даже уход в мир иной отсрочить. Чтение помогает, преодолевая повседневную суету, обретать смысл. В условиях жизни в депортации чтение молодежи воспитывало чувство собственного достоинства, ограничивало обретение ненормативной лексики в послевоенной сибирской деревне.




