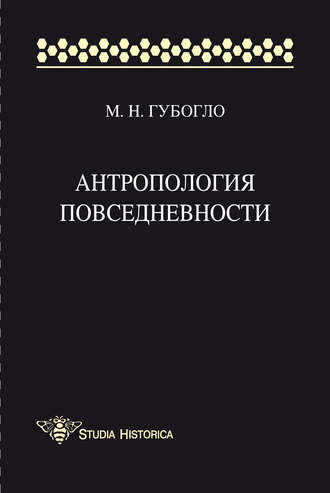
М. Н. Губогло
Антропология повседневности
Таким образом, возникла двуединая задача. С одной стороны, попытка представить свои воспоминания в качестве субъективного взгляда и как источник для антропологического анализа повседневности, а с другой – уловить некоторые тенденции в развитии общественного сознания, обреченного на взлет активности или на социальную апатию и психологическую пассивность в противоречивый период поствоенной истории Советского Союза.
Биографически сконструированные «Опросные листы», ставшие базовым источником этносоциологических исследований, навели на мысль об автобиографии, как этносоциологическом источнике, о чем подробнее будет сказано ниже.
2. Повседневная жизнь в зеркале автобиографии
Рукой слезу останови,
Не бойся горестного знанья.
Проходит время для любви,
Приходит для воспоминанья.
Инна Лиснянская
В относительно юной, по историческим меркам, этносоциологии, которая моложе своих родителей – этнографии и социологии, ориентированных больше на изучение групповых, чем личностных явлений, биографический, а тем более автобиографический метод редко привлекался для осмысления взаимосвязей этнических и внеэтнических явлений и процессов. Между тем перспективы активизации и широкого внедрения в научный оборот этого специфического источника представляются заманчивыми и привлекательными. В основе актуализации интереса к личности и ее индивидуального жизненного пути лежат те трансформационные процессы и связанные с ними изменения, которые сегодня, в ходе перемен, смещают акцент от коллективизма и массовости к индивидуальности и личности.
Раскрепощение духа бывших советских людей, признание и защита прав и свобод постсоветского человека, порождает интерес не только к ключевым моментам в его жизненной судьбе, но и попыткам самоосмысления, в том числе выраженных путем описания своей судьбы в связи с судьбой своей молодой родины.
Известный скепсис одного из создателей советской этнографической школы С. А. Токарева к воспоминаниям и мемуарной литературе, понятно, был предопределен господством той идеологической атмосферы, когда корпоративные интересы коллектива, общества и государства ставились выше интересов индивида. «Мемуары и разные биографические и автобиографические произведения, – помнится, учил студентов кафедры этнографии исторического факультета МГУ в 60-е годы прошлого века С. А. Токарев, – интересуют историографа этнографии лишь в одном случае, когда они относятся к лицам, оставившим свой след в развитии этнографической науки, и дают о них биографические сведения» [Токарев 1966: 8].
Речь, как видно, идет, во-первых, только об историографической стороне дела, когда не исключается обращение к автобиографии как к историческому источнику, в том числе и в исследовании этнологической проблематики. Во-вторых, не отрицается тот факт, что во многих мемуарах – ив «Житии» Протопопа Аввакума, и в «Записке» Андрея Болотова, и у различных новейших мемуаристов – как объяснял свою позицию С. А. Токарев, – можно найти немало ценных для этнографа бытовых черточек», хотя это «черточки» по мысли автора учебника по историографии этнографии, «как правило, характеризуют лишь собственную среду мемуариста» [Токарев 1966: 8].
Современные этнокультурная и этнопсихологическая ситуации в регионах России и в странах ближнего зарубежья, во многом определяемые этнополитической атмосферой, в наше время, т. е. на заре нового века, характеризуются нарастающим интересом к проявлению различных форм идентичности: от тендерной до гражданской, от этнической до имущественной и от религиозной до региональной. Ответом на этот интерес выступают интеллектуальные усилия в виде расширяющихся рефлексий по поводу связей человека с культурно-историческим пространством и национальным достоянием своего и других народов. Вслед за первой волной смещений этнического из сферы материальной в духовную и далее в политику и обратно из политики в сферу психологии [Губогло 2007: 275–283] происходит вторая волна смещения из, по крайней мере, внешне монолитного советского общества и его продукта – коллективистски настроенного советского человека в сторону повседневного существования простого индивида с изображением ключевых узлов и перекрестков его жизненного цикла, в том числе его маргинальности.
Соответственно, это находит выражение в расширении предметной области этнологии и ее составной части – этносоциологии.
Автобиография, как этнологический источник, проявляет свою ценность тем, что, будучи формализованной схемой жизненного пути, раскрывает внутренние переживания и противоречия индивида, как его культурно-личностной саморефлексии.
Биографические очерки, издания в честь юбилеев, мемуары, воспоминания современников о классиках науки позволяют раскрывать не только биологическую, но и творческую судьбу ученого. (См., например: [Благодарим судьбу… 1995; Гутнова 2001; Междисциплинарные исследования… 2005; Репрессированные этнографы 1999; Репрессированные этнографы 2003; Академик Ю. В. Бромлей 2003; Этносоциология и этносоциологи 2008]; Р. Г. Кузеев, В. А. Тишков, М. Н. Губоглу Ю. А. Поляков, Ю. Б. Симченко.)
Современный специфический интерес к индивиду представляет, прежде всего, интерес к антропологии человека, как носителя изменяющейся культуры и как субъекта самоидентификации. Ответом выступают интимные письма, дневники (для себя), автобиографии, в которых делается попытка, известная с античности, уяснить самому себе, каким образом реагируют на вызовы внешней среды душа и поступки человека на разных этапах жизненного цикла. При этом предполагается, что, во-первых, характерные для жанра автобиографии «чейные» события и факты не менее важны для читателей и исследователей, чем «ничейные».
А, во-вторых, сдвиги в самоощущении в структурировании идентичностей происходят тогда, когда «возникают стимулирующие внешние условия» [Баткин 2000: 160–161].
Этнологический аспект автобиографического текста состоит в фиксации культурных изменений и тем самым показывает созвучие разных эпох и место человека в культуре.
И сегодня, в век освоения космоса и всемогущества Интернета, сидя перед экраном компьютера, имея возможность общаться с коллегами на любой точке земного шара, мне странно вспоминать комнату в глубинке Курганской области, в которой не было ни газа, ни электричества, ни телефона, ни телевизора. Длинными зимними вечерами можно было читать только при свете керосиновой лампы, от струйки дыма которой покрывались темным налетом обледенелые стекла двойной оконной рамы. Удивительно, как писал Вадим Шефнер, что человек, оставаясь «все тем же», за короткую жизнь успевал повидать так много, что не рассказать об этом он просто не может [Шефнер 1976: 75].
Между тем анализ текстов автобиографий, даже несмотря на их субъективность, имеет свою поучительную историю в социально-психологической литературе.
Стоит вспомнить, что еще в 40-е гг. прошлого столетия, проанализировав крупный корпус литературных источников, один из крупнейших психологов XX в., основоположник психологии личности, как особой предметной области психологии, Гордон Олпорт составил впечатляющий список мотивов, побуждающих иных людей к написанию автобиографических текстов:
1) самозащита или самооправдание в своих глазах или перед окружающими;
2) эгоистическое стремление показать себя. Классическим примером этого типа автобиографии может служить, в частности, известная «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо;
3) стремление привести в порядок свою жизнь путем записи событий и собственных действий; 4) поиск эстетического удовлетворения в писательской деятельности; 5) осмысление перспектив собственной жизни, отчет о пройденном пути, начало «новой жизни», рассуждение по поводу своих достоинств и возможностей; 6) разрядка внутреннего напряжения в период жизненного кризиса, иногда перед самоубийством, стремления показать свои внутренние конфликты; 7) к написанию автобиографии часто прибегают люди, находящиеся на пути возвращения в общество, например преступники, покончившие со своим прошлым; 8) люди могут писать автобиографии, считая, что их записи имеют ценность как исторический источник, психологический или социологический материал; 9) иногда люди ведут дневники или пишут мемуары, считая, что это их долг перед обществом или будущими поколениями, которым они хотят подать пример или сообщить информацию, имеющую большое моральное значение; 10) мотивом может быть стремление к бессмертию, увековечиванию собственной личности, протест против забвения.
Наряду с перечисленными десятью внутренними мотивами Олпорт называл следующие внешние: желание получить деньги за публикацию или премию за участие в конкурсе, поручение написать автобиографию, например с научными целями, для публикации, либо передачи родственникам, потомкам. В учебных целях профессор может дать такое поручение своим студентам.
Люди, попавшие в беду или страдающие психическими расстройствами могут писать автобиографии по рекомендации врачей, чтобы помочь им в диагностике и лечении, а также для разрядки внутреннего напряжения [Allport].
Моим воспоминаниям не подходит ни один из перечисленных мотивов из реестра, составленного классиком социальной психологии Гордоном Олпортом. Я беру на себя смелость обращаться в первом разделе своей книги к своей памяти с единственной целью: осмыслить величие адаптационного подвига спецпереселенцев – безвинно наказанных людей, сумевших найти в себе силы, чтобы, потеряв свой дом и поля, сады и виноградники, лошадей и овец, домашнюю птицу и домашний скарб, заново конструировать свою жизнь с нуля, приспосабливаясь к новому укладу жизни.
Автобиографии, созданные россиянами в разные периоды истории России, как особый литературный жанр, имеют поучительную историю. Как отмечалось в литературе, первые письменные автобиографии, появившиеся в конце XVII в., отражали духовный путь личности, стремившейся к религиозному идеалу. Автобиографии XVIII в. отражали наличие эмоциональных настроений, что позволяло отражать формирование противоречивой личности. В XIX в. автобиографии представляли уже не только автопортрет самого автора, но и его попытки объяснить природу своих социально-психологических свойств и характеристик путем соотнесения себя и своих личностных качеств с мнением и состоянием других. Начавшаяся в XX в. самообнаженность и склонность к прозрачности достигла сегодня, на заре XXI в., особой выразительности.
В художественной литературе одаренные от природы люди приступают к написанию своего жизнеописания, отвечая на вызовы настоятельной потребности самовыражения. Импульсы идут от острого желания проманифестировать творческий потенциал своей идентичности, адаптироваться во внешнюю социальную среду путем фиксации декларируемого образа себя.
Я слышала, – с пронзительной откровенностью пишет в своей автобиографии Агата Кристи, – что любой человек рано или поздно приходит к этой настоятельной потребности. Совершенно неожиданно такое желание овладело и мной… Мне хочется наугад запустить руку в собственное прошлое и выудить оттуда пригоршню воспоминаний. Жизнь, мне кажется, состоит из трех периодов: бурное и упоительное настоящее, минута за минутой мчащееся с роковой скоростью; будущее, смутное и неопределенное, позволяющее строить сколько угодно интересных планов, чем сумасброднее – тем лучше… и прошлое, фундамент нашей нынешней жизни, воспоминания, разбуженные невзначай каким-нибудь ароматом, очертаниями холма, старой песенкой[1].
Некоторые сюжеты моих воспоминаний были написаны и частично опубликованы, когда увидели свет воспоминания выдающегося советского и постсоветского историка, академика Ю. А. Полякова и автобиографический роман «Ложится мгла на старые ступени» крупного российского филолога А. П. Чудакова (1938–2005) [Поляков 2011; Чудаков 2013].
Несть числа новейшим автобиографическим жизнеописаниям. Трудно было бы их перечесть. Здесь не стоит задача подробных рефлексий о многих из них, которые вызывают сходные, или сложные ассоциации в связи с изображением личности самого мемуариста и его способности отображать в аналитической или художественной форме свою профессиональную карьеру, образ Советского Союза или России в разные периоды существования страны.
Книга воспоминаний Ю. А. Полякова интересна тем, что в ней отражена важная часть повседневной жизни его коллег – историков, взлеты и падения исторической части российского гуманитарного знания, в лоне которой складывалась и моя профессиональная карьера. На одном дыхании я «проглотил» воспоминания А. П. Чудакова в формате автобиографического романа «Ложится мгла на старые ступени». Прежде всего поражает найденная им метафора ностальгического изображения своего жизненного цикла классическим образом: «старые ступени».
Как будто в своих воспоминаниях автор, обладающий феноменальной памятью, спускается по старым ступеням в страшные, но по-своему счастливые годы детства и юности, создавая через события и картины собственной биографии образы довоенного и поствоенного времени, образы «подлинной России в ее тяжелейшие годы, в том числе в труднейших ситуациях, в которые попадали ее репрессированные граждане».
Однако оба российских мыслителя, и Ю. А. Поляков и А. П. Чудаков, в отличие от сумрачных гениев Запада, таких, например, как Кант, Гегель и иже с ними, обладали неистощимым чувством юмора. В аннотации к роману А. П. Чудакова указаны ее главные достоинства: «Книга гомерически смешная и невероятно грустная, жуткая и жизнеутверждающая, эпическая и лирическая» [Чудаков 2013: 4].
Со многими из героев Ю. А. Полякова я был знаком, слушал их лекции, посещал семинары, участвовал в конференциях и симпозиумах. Особая точка пересечений интересов в лекционной деятельности, связанной с обществом «Знание», в руководстве которого Ю. А. Поляков играл важную роль, а мне посчастливилось побывать во многих регионах Советского Союза с лекциями по заданию Всесоюзного общества «Знание». Подробнее речь пойдет в очерке, посвященном памяти моего друга-сокурсника по историческому факультету А. С. Рудя, а на самом деле о поколении советской молодежи, провинциалов, осваивающих ритмы жизни и образы Родины и особенности повседневной жизни, попав в столицу из городов и сел обширной, но единой страны.
Я неоднократно испытывал на себе невероятное чувство юмора, неистощимый оптимизм Ю. А. Полякова, в том числе во время совместной поездки в г. Вильнюс, когда на рубеже 1980–1990 гг. над Литвой начали сгущаться грозовые тучи конфликта с Центром. Вместе с литовскими коллегами мы размышляли о текущем моменте, обсуждали проблемы национальных меньшинств в системе обновляемой национальной политики. О нашем визите благожелательно поведала местная газета на польском языке, поместив мою фотографию, видимо, в знак признательности за концептуальную поддержку правового статуса польского меньшинства в Литве.
Читатели легко поймут меня. Прочитав объяснительный запевный «фрагмент» из «воспоминаний историка» в вводной главе «О чем рассказывать», уже нельзя было ни остановиться, ни оторваться от чтения. Не откажу себе в удовольствии привести двойную цитату из Пушкина и комментарий Ю. А. Полякова.
Пушкин в дневнике записал рассказ об одном незадачливом мемуаристе. «Генерал Волховский, – сообщает Пушкин, – хотел писать свои записки (и даже начал их; некогда в бытность мою в Кишиневе, он их мне читал). Киселев сказал ему: «Помилуй! Ты о чем будешь писать?» – Что я видел? – возразил Волховский. – Да, я видел такие вещи, о которых никто и понятия не имеет. Начиная с того, что я видел голую… государыню (Екатерину II, в день ее смерти)» [Пушкин 1978, 8: 40; Поляков 2011: 5].
Мои дела с воспоминаниями – пишет далее знаменитый академик Ю. А. Поляков с непередаваемой иронией и брызжущим юмором, – обстоят значительно хуже, чем у генерала Волховского. Я не могу похвастать не только тем, что видел голую задницу скончавшейся императрицы, но даже Ельцина или Гайдара в плавках. Я не встречался лицом к лицу и не перемолвился ни единым словом ни с одним из генсеков, ни с одним президентом». Более того, продолжает свой безобидный сарказм Ю. А. Поляков, «я не встречался с вождями партии и народа, с лидерами перестройки, ни с другими гениальными поэтами-песенниками, не общался с великими мастерами кожаного мяча и несравненными звездами эстрады, то есть со всеми теми, кто оставил такие заметные вехи в нашей истории [Поляков 2011:5–6].
Насчет оставленных или неоставленных «вех» в истории – это, конечно, зря. Вряд ли участники банкета в честь избрания В. А. Тишкова академиком РАН смогут забыть самый остроумный и искрометный тост, произнесенный Ю. А. Поляковым с бесподобной интонацией эстонского акцента, не уступающей ни М. Галкину, ни другим популярным юмористам и пародистам.
Я не помню – в отличие от Ю. А. Полякова – похороны И. В. Сталина, не видел танки на Садовом кольце в июне 1953 г., когда (как) низвергали Лаврентия Берия и требовалось обезоружить охрану в его доме возле Кудринской площади [Там же: 6–7]. Но я хорошо помню Каргапольскую восьмилетнюю школу, когда мы, ученики 6-го класса, выстроенные в обширном темном коридоре, рыдали вместе с учителями в связи с кончиной «вождя народов».
Хорошо помню, что плакал вместе со всеми, поддавшись ощущению общего горя. Однако, вернувшись домой, я обнаружил, что родители и родственники, а также соседи из числа депортированных, имевшие все основания ненавидеть И. Сталина, не сильно оплакивают и совсем не страдают по поводу смерти вождя. Наоборот, обсуждают новые надежды на послабление комендантского режима, на дальнейшее улучшение жизни и даже на возможность возвращения в родные края в связи с амнистией или реабилитацией.
Только через несколько лет, став студентом МГУ, и, проживая в общежитии на Стромынке, я впервые услышал о чудовищной трагедии, случившейся в Москве в дни похорон И. Сталина и закончившейся человеческими жертвами. После разоблачения культа личности об этой трагедии открыто писали в прессе, в научной и художественной литературе. Тем не менее наиболее сильное впечатление на меня произвели воспоминания о днях похорон академика Ю. А. Полякова, который вместе со своим другом, будущим академиком Ю. А. Писаревым, был не только свидетелем и очевидцем великой давки, но даже сумел прорваться к гробу в Колонный зал.
Приведу два фрагмента – аналитический и описательно-событийный – из текста его воспоминаний. Он обратил, в частности, особое внимание на тот факт, что
…кроме неоспоримо масштабного значения физической смерти, означавший конец сталинской диктатуры, имело место еще одно обстоятельство, делающее март 1953 г. столь памятным. По его впечатлениям и размышлениям – это гибель сотен людей во время прощания с вождем в результате смертоубийственной давки, обусловленной многими причинами. Поразительное скопление народа, губительный хаос, неожиданно обнаружившаяся расхлябанность, растерянность партийно-советской машины, массовость смертей и травм – все это было производным от смерти генералиссимуса [Поляков 2011: 296].
Потрясение, вызванное психозом толпы, психозом стадности вылилось в чеканные строчки воспоминаний о том, что и как происходило в дни мартовского столпотворения.
Человек, – в анализе Ю. А. Полякова, – попавший в водоворот, беспомощен. Он может проклинать себя за неосторожность, он может кричать, рыдать, стонать, пытаться прибиться к берегу. Но каждый, находившийся рядом, также беспомощен, каждый не принадлежит себе. Каждый – частица огромного целого и, не желая быть этой частицей, подвергаясь смертельной опасности, пытается противиться, каждый подчиняется движениям целого, ибо он сам вольно или невольно неотъемлемая составная этого целого [Там же: 311].
В этом описании толпы, достойном войти в антологии и учебники по социальной психологии, я верю каждому слову Ю. А. Полякова. Позволю себе очень коротко вспомнить о том, что происходило на Манежной площади, когда по радио сообщили о полете Ю. Гагарина в космос.
В Большой исторической аудитории МГУ, что на углу улицы Герцена и Манежа, шла вялая лекция, кажется, по атеизму, когда влетела записка: «Наш человек в космосе». Весь курс в едином порыве сорвался с места и кинулся на Манежную площадь. На следующий день в центральных газетах мы прилежно выискивали среди ликующей толпы знакомые лица наших однокурсников. В яростном выражении счастья выделялся Виталий Цымбал, Толя Фомичев, Саша Рудь.
Однако, через несколько минут праздник и всеобщая эйфория едва не закончились очередной трагедией типа Ходынки или похорон «вождя народов». Численность торжествующих и выражающих радость советских граждан нарастала так быстро, что Манежная площадь, в ту пору еще не застроенная всевозможными бутиками, не вмещала вновь прибывающих. Оказавшись в плотной толпе, слившись с ней, мы, в невероятной давке, двигались сначала по направлению к гостинице «Москва», а потом качнулись вправо к Историческому музею и Красной площади. В этой безудержно несущей толпе, я оказался в такой тесноте, что не мог пошевелиться ни вправо, ни влево. Меня несло помимо моей воли и моего желания. В какой-то момент я прижал руки к бокам и понял, что ноги не достают асфальта. Толпа несла, слава Богу, мимо конной милиции, ограждающей вход в Александровский сад со стороны Исторического музея. Никто из наших однокурсников, к счастью, не попал под копыта лошадей.
С годами полет советского человека в космос, как важнейшее историческое событие в жизни страны, укрепился в сознании граждан гордостью за свою идентичность, т. е. за принадлежность к великой стране. Он до сих пор волнует граждан России и подпитывает души достоинством за принадлежность к российской нации, как прямой наследнице Советского Союза.
Я вспоминаю о рыдающей школьной линейке, о похоронах И. Сталина и полете Ю. Гагарина в одном типологическом ряду исключительно с одной целью: подчеркнуть историческое значение невероятного всплеска радости и гордости за отечественную науку и технические достижения: они до сих пор служат брэндом для осознания представителями многих народов России гордости быть ее гражданами.
Возрастающий интерес к мемуаристике и воспоминаниям подтвердил в только что опубликованной монографии «Российский народ: история и смысл национального самосознания» (М., 2013). Аназилируя вопросы, имеющие фундаментальное значение для понимания истории и смыслов формирования национальной идентичности, как основы существования россиян в формате народа-нации, В. А. Тишков неоднократно «приправляет» анализ фактами, событиями, фотографиями из собственной биографии [Тишков 2013: 6, 10, 22, 33, 62, 64 и др.].
С точки зрения концепции культурного плюрализма чрезвычайно продуктивную мысль высказал Даниил Гранин.
Когда пишешь автобиографию, – писал он, акцентируя внимание на ощущении множественности своего «я» в своем жизнеописании, – пишешь на самом, деле не о себе, а о нескольких разных людях, из них есть даже чужие тебе. Меня было три, а может и больше. Довольно трудно прийти к выводу насчет себя и оценить, что это за человек жил-был на свете, такой он разный, несовместимый… я пробовал осмыслить свое новое или, вернее, иное отношение к прежним моим увлечениям… Автобиографии знакомых людей читать интересно – видишь, как автор представляет себя и свою жизнь, а ты знаешь его другим[2].
Кому, как не самому себе, больше всего может доверять человек не только в поисках смысла жизни, как это, например, блестяще продемонстрировал известный советский философ Б. Коваль [Коваль 2001: 474], показавший, что «жизнь богаче ее собственного смысла», но и опирающиеся на мнение своих предшественников. Поисками смысла жизни и связанной с ним идентичности были озабочены многие поколения талантливых людей до и после Омара Хайама, рубайи которого начинают и завершают данный очерк.
И я доныне не слыхал,
Увы, ни от кого,
Зачем я жил, зачем страдал
И сгину для чего.
[Омар Хайам 2008: 250]
Мемуары и воспоминания, в том числе собственные, как особый взгляд литературного творчества, требуют особого критического отношения. Для исследователя повседневности в ретроспективном плане этот вид источников представляет большой соблазн. Аккуратность их создания и тем более истолкования зависит от качества и доверия памяти, от кругозора, ответственности и ментальности мемуариста, от дистанцированности по времени, от способности адекватно видеть и оценивать свое прошлое, не всегда замечая и выделяя в нем романтическое прошлое в ущерб объективности.
Давно замечено, что в воспоминаниях представителей творческой интеллигенции и лиц из других социальных слоев содержится полезная и интересная, порой романтически окрашенная информация о деталях и красках повседневной жизни, хотя и не всегда акцентируется в них важный для этнолога этнический или религиозный аспекты обыденной жизни [Симонов 1989; Воробьев 1989; От оттепели до застоя 1990; Орлов 1992; Злобин 1993; Вишневская 1994; Пузиков 1994; Чуковский 1994; Самойлов 1995;Эренбург 1996–2000: т. 6, 7, 8; Трояновский 1997; Евтушенко 1998].
Еще беднее сведения о бытовой и повседневной жизни на страницах мемуаров, составляющих значительный удельный вес в общем потоке мемуаристики и воспоминаний, написанных политиками и общественными деятелями, бывшими активными участниками политической жизни страны и ее регионов накануне и после Хрущевской оттепели [Хрущев 1999; Микоян 1999; Каганович 1996; Мухитдинов 1995; Шепилов 1998; Байбаков 1998; Громыко 1990; Гришин 1996; Шелест 1995].
В воспоминаниях политических, партийных, государственных и хозяйственных деятелей первостепенное внимание уделяется, во-первых, их конкретной деятельности, нередко попыткам оправдать свои решения, действия, составленные документы, во-вторых, их мемуары, как правило, основаны на документах, собранных их бывшими помощниками, в-третьих, на текстах воспоминаний лежит печать предвзятости и субъективности.
Для большинства ученых, вовлеченных волной общественного интереса в осмысление идентичности постсоветского периода, специфическая проблематика гражданской идентичности, ставшая одной из востребованных тем современного гуманитарного знания, продолжает оставаться недостаточно исследованной. Особую актуальность ей придает ее «привязанность» к крупным трансформационным процессам, происходящим на протяжении двух десятилетий на рубеже XX и XXI вв. в контексте курса, избранного Россией в демократию, рыночную экономику, конституционному закреплению прав, свобод и обязанностей граждан России.
Социальные травмы, пережитые бывшими советскими гражданами после распада СССР, актуализируют вопросы о том, какие пружины обыденной жизни оказывали влияние в недалеком прошлом и продолжают действовать сегодня, вызывая рост гражданского самосознания и социальной активности, или, как социально зреющая гражданская идентичность служит обеспечению исчислимых параметров повседневной жизни. Для анализа повседневности поствоенного времени, выберем две хронологические точки отсчета времени, после победоносной войны императорской России в 1812 г. и после победы, одержанной Советским Союзом в войне с гитлеровской Германией в 1941–1945 гг.




