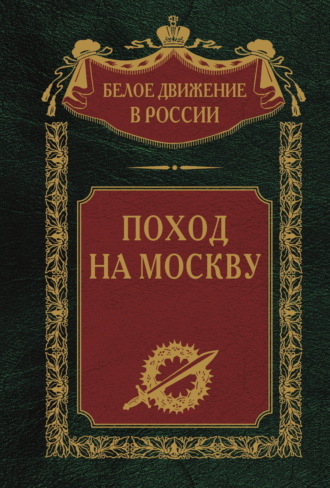
Поход на Москву
Жизнь в городе и уезде налаживалась, и все уверенней чувствовали себя в новой роли неожиданно ставшие гражданской властью марковцы маленькой роты. Они видели, что выполняют дело Добрармии на мирном поприще, но связанное с боевым тесно и крепко. Они видели не только уважение к себе и к их роте, но и вообще к Белому делу. Показателями тому были, во-первых, сообщения крестьян о красных, блуждающих по уезду, благодаря которым рота была гарантирована от внезапного нападения, и, во-вторых, неожиданное пополнение роты добровольцами из крестьян, бывших солдат. До 60 человек поступило их, не считая офицеров и юных добровольцев. Рота с 28 штыков возросла до 180.
11 дней простояла рота в Волчанске и уехала, не сдав никому свою гражданскую роль: в город и уезд еще никто из назначенных высшей властью администраторов не прибыл. Не прибыл даже постоянный комендант города. Жаль. А так хотелось передать власть и поделиться богатым опытом.
II. Конная сотня полка стояла в селе Черная Поляна. Комендантом от сотни был назначен молодой офицер. Веселый, общительный, справедливый и внимательный к крестьянам, он быстро завоевал их симпатии и доверие, что давало ему нравственное удовлетворение: ведь он представительствовал перед населением власть Добрармии.
Однажды к нему пришло несколько крестьян поговорить о своих делах. Оказывается, их очень беспокоил вопрос об урожае с земли помещика, которую они обрабатывали два года. Комендант, не задумываясь, ответил, что урожай, конечно, их. Ответ успокоил крестьян. Через несколько дней приехал помещик с управляющим и потребовал от крестьян значительную часть урожая в свою пользу. Крестьяне пошли к коменданту. Последний немедленно отправился к помещику, чтобы отстоять «интерес» крестьян. Перед собой он увидел кавалерийского офицера и старшего в чине. Разговор был коротким и официальным. Помещик заявил о своих правах и о том, что военному коменданту не дано право выяснять и разбирать дела между помещиком и крестьянами.
Казалось, что помещик был прав в обоих случаях, но это не успокоило ни коменданта, ни офицеров конной сотни, которым он рассказал о разговоре. Решено было, что комендант поедет в Белгород, доложит генералу Тимановскому и получит указания, как быть.
Генерал Тимановский ответил коротко и твердо:
– Передайте крестьянам, пусть режут свою капусту (земля была засажена капустой) и не обращают внимания на требования всяких там помещиков.
Переданный крестьянам ответ их успокоил, а помещик пришел в бешенство.
– Я доложу об этом куда следует! – заявил он.
Крестьяне, собрав урожай капусты, постановили часть его сдать в пользу Добрармии.
III. Район Корочи. Село взято с жестоким боем. Перепуганные крестьяне встретили «белых» марковцев сумрачно, но с радушием, может быть, в данном случае не столь искренним, сколько из желания как-нибудь умилостивить неизвестных им победителей красных. В селе марковская часть стояла несколько дней, и за это время жители убедились, что «белые» добрее красных: они ничего не требовали, а просили и за все даваемое расплачивались и деньгами, и всякими «трофеями»: куском материи, рубашкой, платком, иногда ботинками и пр., чем были набиты мешки красноармейцев. Жители охотно шли на такую мену. «Красные у нас брали, а ничего не давали», – признавались они. Холодок взаимоотношений, к радости марковцев, проходил. Установилось и взаимопонимание. Но вот вопрос одного старика сильно их озадачил и даже ошеломил.
– А правда ли, как говорили красные, мы за то, что засеяли землю помещика, должны сдать ему каждый третий сноп урожая?
Ответа марковцы не нашли; некоторые пытались, но ответы еще больше приводили их же в смущение и растерянность. Так бывало в моменты паники во время боев, но с той разницей, что в боях паника быстро проходила, так как находились способы ее остановить; в данном случае их не было. О «третьем снопе» никто ничего не знал. Было три выхода: или согласиться с заявлением большевиков, или опровергнуть, или, наконец, отговориться незнанием. Пришлось что-то лепетать о справедливом решении этого вопроса белой властью и даже говорить об Учредительном собрании, которое решит этот вопрос в пользу крестьян. Крестьяне что-то пробурчали и ушли.
Настроение резко понизилось; такого не бывало даже после серьезных боевых неудач. Поднялись споры: обязаны ли они отвечать на такие вопросы или нет? Коли отвечать, то как?
С этого дня марковцы заметили большое охлаждение отношений крестьян к ним; крестьяне стали молчаливы, задумчивы, мрачны… Нарвались даже на такое возражение:
– Да что там говорить? Вы, баре, нас не понимаете, а большевики понимают…
А одна шустрая крестьянка, хотя и была удовлетворена меной сала на платок и рубаху, добавила:
– Ешьте на здоровье, да не все. Приберегите часть смазывать пятки.
Такие высказывания больно хлестали по настроению марковцев, и без того снизившемуся из-за их неведения, их беспомощности, их безоружности в подобных случаях.
IV. Вернулся в полк из Александровска после отпуска, связанного с особыми заданиями для полка, офицер. Соратники, конечно, засыпали вопросами. Ответы были весьма успокоительны и даже радостны. Банды махновцев? Но с ними будет покончено. Радовали рассказы об отсутствии «украинских» настроений, об исчезновении «щирых», о всеобщей радости по случаю освобождения и о том внимании, которое оказывалось ему, как представителю одной из известных частей Добрармии. Но офицер не скрыл того тупика, в который он попал в разговоре с инженерами.
– За что борется Добрармия?
– За Единую, Великую, Неделимую.
– Это общая фраза, ничего не говорящая, – возражали ему, – и большевики борются за это же. Но они в то же время разрешают так или иначе вопросы политические, социальные, экономические, чтобы улучшить жизнь народа. Так вот, как разрешает эти вопросы Добрармия?
Ответа от офицера не последовало. Он мог бы высказать свое мнение, но о мерах Добрармии он ничего не знал. Пришлось отговориться фразой правдивой и законной, но никого не удовлетворившей:
– Мы воюем, чтобы освободить Родину, а все остальное нас не касается. Армия вне политики!
Инженеры добродушно улыбнулись, и разговор перешел на другие темы.
V. Одна марковская рота заняла хутор дворов в пятьдесят. Хутор богатый. Бросилось в глаза обилие в нем гусей и вообще домашней птицы. Совершив фланговый переход в течение дня, имея столкновения с противником, утомленная, она ждала прибытия своей кухни. Впрочем, в некоторой степени голод утолили радушные хозяева хутора. Наутро к командиру роты приходят трое и возбужденными голосами, почти крича, говорят ему:
– Житья нет! Красные нас грабят, белые грабят…
– В чем дело?
– Да в том дело, что нас грабят. Житья нет.
Тон крестьян был такой, что давал повод просто выгнать их, но офицер сдержался. Выяснилось, что у одного украдены две курицы.
– Я произведу расследование и строго накажу грабителей. Идите!
Со злым ворчанием крестьяне ушли. Дознанием, проведенным сурово и твердо, удалось найти виновника, рядового солдата роты. Тогда были вызваны жалобщики и произошел такой разговор:
– В Добрармии грабежи и насилия строго караются. Пострадавший получит за кур деньги, сколько он потребует, а грабитель, вот этот солдат, сейчас же в вашем присутствии будет наказан. В Добрармии за грабеж полагается расстрел. Поручик Н., вызовите отделение!
Крестьяне были ошеломлены.
– Ваше благородие! Да за что его расстреливать?
– Да за грабеж.
– Ваше благородие, – выкрикивает один из крестьян и бросается на колени. – Простите его.
– За грабеж нет прощения.
Произошла драматическая сцена.
– Хорошо, – сказал, наконец, командир роты. – Не расстреляю, но наказание он должен понести. Всыпать ему 50 шомполов.
– Да за что?
– За кур.
– Ваше благородие. Да их у нас и счета нет. Прости его.
После мольб крестьян о прощении виновного, после извинений за грубый тон командир роты сказал:
– Ну хорошо. Но наказание виновный понести должен, и не просите больше о его прощении. Он будет стоять под ружьем на перекрестке хутора два раза в день, пока мы будем стоять здесь. Пусть все видят, что у нас наказывают строго.
Крестьяне успокоились, благодарили и отказались от возмещения убытков. А в центре хутора стал «под винтовку» провинившийся солдат.
Среди офицеров роты происшедший случай вызвал большие разговоры и споры. Не оспаривая решения командира, будучи удовлетворены результатом, некоторые все же находили, что командир роты проявил слабость. Тон жалобщиков считали «большевистским» и вызванным их сочувствием красным. Другие поражались, что, когда крестьян грабили красные, они, видимо, молчали, а тут им была показана слабость добровольцев. Поражались и «жадностью» крестьян – сотни кур и гусей у каждого, и такой «скандал».
Действительно, богатство крестьян было огромно. Помимо земли, дававшей здесь большой урожай, помимо скота, домашняя птица давала им большой доход: отправлялись не только в города, но и за границу живые гуси, яйца. Как бы то ни было, но вопрос с курами считался благополучно разрешенным. Но… через два часа последовало его продолжение.
– Господин капитан! К вам снова те же крестьяне, – доложили командиру роты.
Крестьяне вошли уже со снятыми шапками, тихо и почтительно. Один из них, староста хутора, сказал:
– Наши хуторяне просят рассказать им, что это за Белая армия и за что она идет?
Вопрос не удивил командира роты, он не нов. Условились, что часа через два крестьяне соберутся и… «мы поговорим».
Задача, взятая на себя командиром, оказалась чрезвычайно трудной. В самом деле: за что борется Добрармия? Было очевидно, что крестьян интересуют вопросы им близкие, для них жизненные: крестьянский и земельный. Но что он знал и что мог сказать по ним? Он знал нужды крестьян, так как сам происходил из крестьянского сословия, знал крестьянскую жизнь под Смоленском, знал жизнь братьев своего отца среди Муромских лесов Владимирской губернии. Там действительно была нужда, так как земля была неплодородная. Ну а здесь на черноземе и в богатстве во всем, что нужно для крестьян? А главное, что дает Добрармия? Что сказать, как удовлетворить крестьян?
Командир вызвал к себе нескольких офицеров, как ему казалось, более или менее сведущих в крестьянских делах, офицеров из крестьян, из студентов, народную учительницу – сестру роты, чтобы разобраться общими усилиями.
Первое заявление было таково:
– Это, в сущности, нас не касается, мы армия!
Другие возражали:
– Как не касается? Если нас спрашивают, то должны или не должны мы отвечать? Мы должны говорить это даже тогда, когда нас и не спрашивают. Мы боремся за освобождение народа от большевистской власти, следовательно, мы должны сказать, что ему даем.
Заспорили не по существу вопроса.
– Не ответить нельзя. Будем отвечать. Но что отвечать? – прервав спор, спросил командир и предложил высказаться каждому.
Офицер, сын крестьянский, братья которого помогали отцу, а он кончил среднюю школу и был на 1-м курсе высшей, подходил к ответу с критикой и недоверием ко всем обещаниям коммунистов, но каковы обещания Добрармии, он сказать не мог. Другие развили теорию о богатых и бедных, о трудолюбивых и лентяях и пьяницах и, наконец, о хорошей и плохой земле и сделали вывод: большевикам верить нельзя, а Добрармии можно и должно, так как она несет покой и мирный труд. Третий, из студентов 3-го курса, развил теорию о коммунизме вообще, упоминал Маркса и Энгельса, говорил об эксплуататорах и эксплуатируемых… Он бы долго и много говорил, если бы его не прервал командир роты.
– Господа! Я прошу вас ближе к цели. Что говорить и что отвечать на вопросы крестьян и другие, могущие быть ими поставленными?
Все разводили руками.
– Сестра. Что вы можете сказать?
– Я жила среди казаков и иногородних. Последним нужна была земля. Здесь земля есть у каждого; живут богато. Крестьянам нужно, чтобы они были спокойны за свое достояние и могли бы свободно распоряжаться плодами своего труда. Ведь это и несет Добрармия.
Время шло, а вопрос оставался открытым. Лист бумаги, лежавший перед командиром роты, оказался лишь изрисованным и слегка исписанным малоценными мыслями.
Пришел староста и сказал, что «собрались». Командир пошел с пустой головой и с беспокойным сердцем: ведь от его предстоящей беседы зависело, быть или не быть крестьянам на стороне Добрармии. Собралось до 150 человек – старики, женщины и одиночки призывного возраста.
– Здравствуйте! Давайте сядем и поговорим…
Офицер был захвачен тем вниманием, с которым слушали его. Речь была проста. Помнилась фраза: «Я не считаю вас бедными. В вашем районе бедных нет. Они есть там, у Москвы. Да откровенно говоря, признаете ли вы себя бедными?» И далее говорил о том, что, конечно, крестьянам что-то нужно, но прежде всего то, что они имеют в данное время и чтобы они могли распоряжаться им, как желают, чтобы их не грабили и не обижали. «А для этого нужен порядок. Когда он был, а было это при Царе, вы богатели, приобретали, готовили для своего потомства». И закончил офицер свои слова такой фразой: «Вот этот порядок и несет Добрармия, порядок, который вам не дадут большевики».
Час с лишним говорил он.
– Ну, теперь спрашивайте меня.
Но вопросов не было, а один за другим они стали подтверждать сказанное, стали говорить о насилиях и грабежах красных, об их «ненасытных желудках», о несправедливости и их злобе. Рассказывали, что красные «угнали» их хлопцев. Это вызвало рыдания женщин и слезы отцов.
– Да если бы мы знали, за что идет Белая армия, то не ушли бы наши хлопцы к красным, а остались бы дома и поступили бы к белым.
Пожелав крестьянам полного благополучия, напутствуемый благодарностями, офицер ушел к себе, пробеседовав с крестьянами около двух часов. На перекрестке улиц стоял под винтовкой виновник всего происшедшего.
На сходке командир роты был один, и, когда он вернулся к себе, его ждали несколько офицеров, горевших желанием узнать о результатах. Но, выпив кружку молока, он извинился, просил дать ему отдохнуть некоторое время: он устал от огромного морального напряжения. Минут через 15–20 он вскочил и, собрав офицеров от каждого взвода, сказал им приблизительно следующее:
– Знаете ли вы, какую роль я невольно и неожиданно выполнил? Роль пропагандиста и агитатора, только не красного, а белого. И выполнил роль недурно. Я был понят крестьянами и, скажу, одержал большую победу. Ставлю ее не ниже тех побед, что одерживались нашей ротой. Она не была прямо проведенным прорывом Красной армии, но косвенно – безусловно. Что мне врезалось в память и что встретило полное сочувствие крестьян – я высказался о Царе, при котором мы все были взаимно любящими и доброжелательными друг к другу.
– Говорили ли вы об Учредительном собрании? – спросил один.
– К черту его. Я не говорил, и меня не спрашивали.
– Была ли речь о земле?
– Что-то говорилось немного, но больше о спокойной и свободной работе на земле.
– Говорили о помещиках?
От этого вопроса командира роты бросило в жар и дрожь.
– Слава богу, об этом ни слова. Может быть, потому, что здесь крестьяне не имеют соприкосновения с помещиками. Такой вопрос был бы убийственным для меня.
Наступил вечер. Как всегда, чины роты, поужинав, строились повзводно в своих районах на вечернюю поверку, получение приказаний на ночь и на молитву. А после этого все должностные лица шли с докладом к командиру. В конце обычного рапорта все командиры взводов неожиданно добавляли:
– Взвод отказался брать пищу из ротной кухни.
Оказалось, во всех домах накормили чинов роты до отвала курами во всех видах, яичницей и т. д., да еще с покорной просьбой: «Ешьте на здоровье!» – таково было неожиданное послесловие к «делу о грабеже кур».
Веселый и радостный смех охватил всех. Все переживали какой-то праздник в душе по случаю необычной победы.
На следующий день после утреннего рапорта взводный командир виновника всех происшествий просил снять с того наказание. «Уж и жалеют его бабы».
– Нет! Пусть постоит.
В роту записались три молодых хуторянина.
Так сама жизнь в процессе вооруженной борьбы ставила перед марковцами политические вопросы и требовала от них ответа, решений и показательных примеров. Так Белая идея, в которую они верили и за которую боролись, наталкивала их на необходимость всестороннего ее понимания. Белая идея требовала умения и знания, как применять ее ко всем областям жизни и ко всем слоям населения. Она побуждала: 1. Знать, за что бороться, 2. Как бороться и 3. Против кого бороться, то есть знать сущность большевизма. Опыт жизни и сражений наглядно показал, что поле борьбы с большевиками не только на поле, но и в умах, сердцах и душах людей. Это в какой-то степени ощущалось бойцами, но продумать глубже у них не было времени; они в походах и боях. И, понятно, у них рождалось безразличное отношение: «Не наше дело!» Но когда дошел слух о каком-то осведомительном агентстве (Осваг), как раз занимающемся этими вопросами, они были удовлетворены. Однако его работы не видели.
На Москву!
19 июня генерал Деникин отдал директиву, получившую название «Московской», в которой говорилось: «Имея целью захват сердца России, Москвы, приказываю: (Опускаются пункты, касающиеся Кавк. Добровольческой и Донской армий.) Ген. Май-Маевскому наступать на Москву в направлении: Курск – Орел – Тула». Время перехода в наступление не указывалось.
Но вот уже конец августа, а Добровольческий корпус ведет бои на тех же местах, в то время как Кавказская Добрармия наступает на север от Царицына, а на левом фланге 10 августа взята Одесса, 17-го Киев, и фронт протянулся до польской границы. Правда, на участке Добровольческого корпуса задержан удар 13-й и 14-й красных армий. К концу августа фронт Добровольческого корпуса оказался значительно удлиненным не только к западу, но и к востоку: была добавлена полоса шириною до 50 верст по обе стороны линии Валуйки – Елец.
С ликвидацией Купянского прорыва, казалось, открылись возможности перейти в наступление. Так судили и марковцы: им достаточно было одной недели полного отдыха, чтобы загореться стремлением вперед. 1-й полк уже насчитывал до 1800 штыков. На фронте 1-й дивизии, от Корочи до Обояни, стояли теперь 1-й Марковский, Черноморский конный, 1-й Корниловский, Кабардинский, 2-й Корниловский, Марковская инженерная рота; в резерве 2-й Марковский. Сила! Почему не наступать? Вправо от дивизии стоял особый отряд со Сводно-Стрелковым полком; влево 3-я дивизия. Корпус генерала Шкуро ушел на Воронеж.
Были и другие основания для наступления: скоро зима, враг ослаблен и, главное, он укрепляется. Говорили о «красной крепости Курск» с окопами и проволокой. Конечно, марковцы не сомневались, что в штабах вырабатывается план наступления, хотя сами совершенно не ощущали влияния этой подготовки.
Начальник штаба 1-й дивизии, полковник Битенбиндер, пишет: «Когда мы разрабатывали план атаки укрепленной позиции у Курска, приехал генерал Кутепов, схватился за голову и категорически запретил атаку. Мы должны ждать, пока прибудет тяжелая артиллерия, ибо без нее нельзя и думать об атаке укреплений Курска. Тимановский решил взять Курск внезапной атакой на свою ответственность. Он не был высокого мнения о духе защитников Курска и надеялся на своих Корниловцев и Марковцев. «Я даже доволен, что атака будет проведена без согласия генерала Кутепова. По крайней мере Доставалов (нач. штаба корпуса) не будет знать времени начала атаки», сказал генерала Тимановский».
И наступление началось 1 сентября; для марковцев 31 августа, когда 1-й полк неожиданно выступил на север, выбил красных из села Толстого и в длительном бою занял Холодное; команда пеших разведчиков выбила противника из села Холань. До 80 человек потерял полк в этот день. Его численность уменьшилась еще и на 40–50 офицеров, отправленных с полковником Наумовым во главе в Харьков на формирование 3-го Офицерского генерала Маркова полка.
На следующий день, когда перешла в наступление вся дивизия, на 1-й полк легла задача обеспечивать наступление с востока, где красные держали фронт у Нового Оскола. Задача как будто скромная, но ответственная.
Атака «красной крепости Курск»
До Курска дивизии предстояло пройти с боем 50 верст. Первый этап – отбросить противника с его передовых позиций на укрепленную полосу, находящуюся в 12–15 верстах впереди Курска; второй – взять эту полосу и третий – перейти текущие с востока на запад реки Рать (Щигор) и Сейм с их болотистыми руслами и возвышенным северным берегом.
Красные уже на первом этапе оказали серьезное сопротивление, и потребовалось четыре дня, даже с помощью танков, чтобы отбросить их на укрепленную полосу. Отлично действовали приданные корниловцам батареи марковцев, и не только своим огнем. Командир 1-й батареи, шт. – капитан Шперлинг, следуя с батареей за батальоном и увидев в стороне стреляющую четырехорудийную батарею красных, со своими конными разведчиками атакует ее, забирает и сразу же открывает из захваченных орудий и пулеметов огонь по красным, отходившим на эту батарею. Вечером, уже в темноте, тот же шт. – капитан Шперлинг сталкивается с группой конных, мгновенно атакует и берет пулемет и чинов комсостава. Через два дня он со своими и присоединившимися корниловскими разведчиками снова атакует, но на этот раз колонну пехоты: 400 пленных и два пулемета. На участке 2-го Корниловского полка конные разведчики запасной Марковской батареи захватили одно орудие в полной упряжке, которое тут же вошло в состав батареи, ставшей трехорудийной.
Сопротивление красных не ослабевало и требовало ввода резервов. В резерве был всего лишь батальон 2-го Марковского полка. (Другие батальоны заканчивали формирование в Харькове.)
4 сентября 1-й батальон 2-го полка высаживается на станции Обоянь и на следующий день, войдя в подчинение командиру 2-го Корниловского полка, под сильным огнем берет село Никольское и хутора Селиховские, захватив два шестидюймовых орудия, потеряв при этом до ста человек из шестисот.
6 сентября атака укрепленной позиции. Выданы ножницы для резки проволоки. Под сильным огнем батальон шел на сближение и залег, не доходя до проволоки несколько сот шагов. В это время по окопам красных открыли беглый огонь батареи. Пять, десять минут, может быть и больше, бьют они. Красные разбегаются. Атака батальона была встречена слабым огнем и стоила ему трех убитых и несколько раненых.
Артиллерия красных продолжала стрелять, когда батальон быстро шел вперед, преследуя в беспорядке бегущие толпы противника, оставляющие позади себя своих убитых и раненых. Нагонять противника поскакали командир батальона, капитан Перебейнос134, начальник пулеметной команды, поручик Стаценко135, с верховыми. Свернув на орудийные выстрелы в рощу, они взяли два тяжелых французских орудия Канэ.
Подойдя к железной дороге Воронеж – Киев, батальон столкнулся с красным бронепоездом «Черноморец» и его вспомогателем. Марковская запасная батарея подбила вспомогатель, который и был взят с восемью пулеметами. Для батареи особенно ценны найденные на нем пять панорам.
Продвинувшись дальше к северу вплоть до реки Сейм, батальон взял села Верхнее и Нижнее Гуторово и стоящие на позиции три тяжелых орудия. Среди пленных захвачен командир батареи и его помощник, которые сначала скрывали свое звание, но были выданы крестьянином. Им пришлось сознаться, что они не только бывшие офицеры, но и коммунисты.
Вот описание укреплений «красной крепости Курск», данное поручиком Стаценко: «Окопы были полной профили с проволочными заграждениями в три кола, с ходами сообщения, с арт. щелями, со скрытой под землей телефонной связью по фронту и в глубину, с землянками и убежищами. Почти каждый стрелок в окопах имел стальной щит. Неимоверное количество гранат валялось повсюду. Взяв такие окопы, мы ахнули. Просто не верилось, что с нашими силами и к тому же почти без потерь мы взяли так хорошо оборудованную позицию. Посади нас в такие окопы, нас пришлось бы дымом выкуривать, да и то вряд ли это удалось бы». Позиция двухорудийной батареи Канэ описана так: «Все было оборудовано на позиционный лад: хорошие землянки, убежища, погреба полные снарядов, беседки, клумбы цветов. Уют, да и только! По найденным тут же документам установили, что это была латышская батарея».
На правом фланге дивизии наступал отряд генерала Третьякова: Алексеевский полк (четыре батальона) и Черноморский конный. Отряд задержался, форсируя болотистое верховье Сейма. Ему помогли корниловцы от станции Солнцево. Впереди укрепленная позиция, и в помощь отряду высылается 3-й батальон марковцев 1-го полка. В ночь на 7 сентября отряд атакует и берет ее.
7 сентября. Атака Курска с форсированием рек Рать и Сейм. Решающую роль сыграл бронепоезд «Офицер» (полковник Лебедев136) и его вспомогатель (поручик Залевский137), за которыми шел «Единая Россия». Ночью, починив железнодорожное полотно, они ворвались на станцию со стрельбой из орудий и пулеметов. Среди красных поднялась такая паника, что команда их бронепоезда «Кронштадт» бросила состав. Без потерь «налетчики» с этим ценным трофеем отошли назад. Красные стали покидать город. Ускорил их отступление подход с востока дивизиона Черноморского конного полка.
Отряд генерала Третьякова, взяв ночью укрепленную позицию, быстро наступал тремя колоннами: на Щигры; через переправу на реке Рать у села Троицкого, на станцию Охочевка и через переправу и деревню Грачевку на станцию Отрешково и на Курск, всюду встречая слабое сопротивление.
К вечеру части корниловцев выдвинулись верст на десять к северу от Курска, где преследовали красных «Офицер», вспомогатель и дивизион черноморцев. Вернувшиеся в Курск поезда были набиты пленными. Были взяты и станции Отрешково и Охочевка и на них несколько железнодорожных составов с продовольствием.
В этот день 1-й батальон 2-го полка пришел в Курск. «Трудно передать словами, что представляло собою в этот день шоссе. Оно сплошь на всем протяжении до самого Курска было забито идущими нам навстречу красноармейцами. Это была целая армия здоровых людей, уроженцев юга России, с нескрываемой радостью возвращавшихся «к себе по домам». Они шли к нам в тыл никем не сопровождаемые. Их была армия, нас горсточка…»
«После обеда мы вошли в Курск. Буквально все улицы, по которым мы проходили, были запружены народом, шумно и радостно нас встречавшим. То и дело раздавались возгласы: «Христос Воскресе!» – и на это в толпе же отвечали: «Воистину Воскресе!» У большинства, как у жителей, так и у нас, были на глазах слезы у них от радости и сознания спасения, а у нас от сознания выполняемой святой миссии освобождения Родины и народа».
8 сентября в Курске был парад, который принимал генерал Кутепов. Участвовали: батальон корниловцев и две Марковские батареи, получившие особую благодарность командира корпуса.
И вот, из записок полковника Битенбиндера: «Приехал генерал Кутепов и сделал выговор Тимановскому за ослушание. Это никакого отношения к неподготовленности тыла не имеет, а объясняется просто: Кутепов был человек железной силы воли. Лично храбрый, подвижной, энергичный и решительный, но он был властная натура, не переносившая самоволия и не терпевшая противоречия в какой бы то ни было форме. Тимановский испытал это на собственной персоне. Но так как оба генерала были друзья, то недоразумение было быстро улажено». Через некоторое время генерал Тимановский был произведен в генерал-лейтенанты.
«Красная крепость Курск» была взята 1-й дивизией в течение девяти дней. Честь победы принадлежит корниловцам, алексеевцам, кабардинцам (не вошедшим в город, а отправленным на другой участок фронта), черноморцам, бронепоездам, танкам и, в какой-то доле, марковцам – их батареям, двум батальонам и инженерной роте, обеспечивающей левый фланг дивизии. Долю победы марковцев можно определить по захваченным ими трофеям: 1-м батальоном 2-го полка шесть орудий, пулеметы, 1-й батареей четыре орудия, пулеметы, 2-й запасной одно орудие и вспомогатель, 3-м батальоном 1-го полка пулеметы, и всеми ими многие сотни пленных.
В этот день, 8 сентября, отряд генерала Третьякова продолжал наступление при возрастающем сопротивлении красных. Одна колонна пошла на север; другая – батальон алексеевцев и батальон марковцев 1-го полка – вдоль железной дороги на Щигры, на который с юга наступал и дивизион черноморцев. Батальон алексеевцев обходил город с севера, батальон марковцев шел по большой дороге; между ними взвод марковцев в 19 штыков при пулемете Льюиса. Командиру взвода, поручику Чеботкевичу, генерал Третьяков дал задачу: энергичным наступлением приковать к себе внимание и возможно большие силы противника. Задача несложная, но для 18 штыков?..
Взвод наступал, не имея зрительной связи с батальонами. Не доходя до города версты 2–3, он встретил красных, повел «энергичное» наступление, и ему сдалось 77 человек во главе с командиром роты, бывшим прапорщиком. Едва сдавшиеся отошли в тыл, как красные перешли в наступление подавляющими силами, а по взводу стали рваться тяжелые снаряды. Не сдержать их. Во взводе уже четверо раненых, один тяжело, ранен и командир взвода. Красные в 200 шагах. И вдруг они поворачивают назад и бегут.
Обходящие город с севера алексеевцы вышли в тыл красным и взяли два тяжелых и три легких орудия. Бывший с ними взвод Марковской батареи громил бегущих, а его конные разведчики в числе шести человек выскочили вперед, атаковали обоз, захватив часть его и несколько пулеметов. Взвод поручика Чеботкевича138 блестяще выполнил свою задачу. 3-й батальон марковцев атаковал город с запада, Черноморский конный дивизион с юго-востока. Среди пленных 40 бывших офицеров из запасных артиллерийских частей красных.


