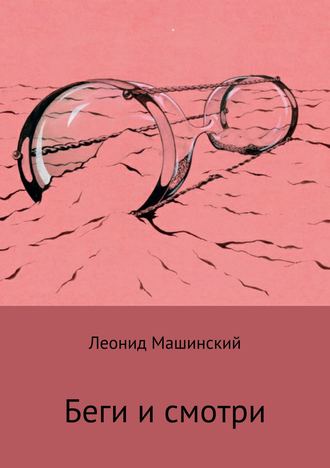
Леонид Александрович Машинский
Беги и смотри
"Свежий воздух – мне стало хорошо!
Я захотел дышать ещё, ещё, ещё!"
(За знаки препинания не ручаюсь). Содержание этого припева, а это был, кажется, именно припев или часть припева, как нельзя более соответствовало обстановке отдыха на природе. Вообще, доморощенные рок-эн-роллы хорошо смотрелись и слушались на фоне родной русской травы. Пока я бродил вдоль забора лагеря, они успели прокрутить одну и ту же пластинку подряд три или четыре раза. То ли другой у них под рукой не было, то ли эта кому-то из усилитель имущих особенно нравилась.
Почти везде со внешней стороны забор была переходящая в болото низина. Так что мне пришлось порядком отступить от цели и взобраться на лесистый холм, чтобы найти подходящее место для палатки. Тем лучше – здесь меня точно никто не побеспокоит. Впрочем, я не наблюдал никакой активности в непосредственной близости от лагеря. Всё происходило только за забором, в котором – как назло – не обнаружилось никаких, сколько-нибудь значительных дыр. Забор был высок, уныл и беспросветен. Из-за него сквозь громкую музыку доносились девические и юношеские голоса. Можно было догадаться по звукам, что кто-то играл в бадминтон.
Может быть, до этого мне ни разу не доводилось ставить палатку в одиночку. Я должен был проделать всё с необходимой тщательностью. Ведь я хотел пригласить гостью. Если она и не разделит со мной походного ложа, то путь хоть полюбуется на ровные линии растянутых крыльев палатки, пусть восхитится моими бродяжническими умениями. Ах, не было у меня тогда этих умений – я только учился. Но куда тут денешься?
Когда я ходил вокруг лагеря и нюхал возбуждающий воздух молодости, наверняка меня посещали сожаления о собственной судьбе. Почему в меня всё так ненормально? Люди учатся, веселятся… Почему я не с ними? Уже и время ушло. Не поступать же, в самом деле, на первый курс? Всё у меня как-то не так. Не как у них, как у людей.
Я уже тогда по сравнению с ними чувствовал себя чуть ли не стариком. Ну, если не стариком, то умудрённым жизнью матёрым скитальцем. И чувствовал ли я при этом своё превосходство? Как ни говори, а это было единственное, чем я мог себя тешить. Я здесь, вовне, не потому что меня выгнали. Я здесь, потому что сам выбрал свой путь, в отличие от них. Они, может, ещё совсем и не знают, что такое выбирать.
Комплекс неполноценности не самая хорошая приправа для соискателя взаимности, когда он является на свидание. Рюкзак свой и оставил в палатке и расправил плечи, но что-то на них всё-таки давило. Чего я боялся? Не побьют же меня? Долго, очень долго – как медведь-шатун – ходил я вокруг да около, пока наконец ни набрался смелости и не вошёл за неимением других проходов в главные лагерные врата.
И о чудо! – я сразу увидел её. Да, она была здесь. Я ни в чём не ошибся. Т.е. с том, сто касается местоположения лагеря и её местонахождения. До этого я пытался заглядывать в ничтожные щели и ободрался, взлезая на бетонные стены. Но ничего и никого существенного я не заметил. Составлялось представление, что все жизненно важные центры лагеря, сосредоточены вдалеке от мест, откуда я мог подглядывать. Движение угадывалось лишь за густым занавесом деревьев.
А тут – вдруг – такая удача. Я-то думал, что ещё помучаюсь. Даже, может быть, где-то в глубине души трусливо предполагал, что так и не сумею её здесь встретить. Пусть ничего не произойдет. Но цель у меня была, эта цель заставила меня пуститься в путь, посетить эти близкие от моих родных, но доселе не изведанные мною места. Кое-что уж было сделано. Средства оправдывали цель.
Но она была в каких-то десяти метрах от меня и уже собиралась уйти. И у меня не было времени на раздумия, я просто окрикнул её, громко позвал по имени. Она то ли не услышала, то ли сделала вид. Я уже не меньше минуты маячил на фоне ворот как какое-то чужеродное включение. Могла бы заметить и без всяких призывов с моей стороны.
Может быть, только тут я её по-настоящему оценил. Предо мною была королева. По крайней мере на ближайшем квадратном километре у неё не было и не могло быть никаких конкуренток. Конечно, такое впечатление могло происходить оттого, что абсолютное большинство девушек, пребывающих здесь, были просто дурнушками. Это нередкое обстоятельство для технических вузов. А красота, пускай и относительная, явление редкое. Впрочем, у нас, в России, слава Богу, не такое уж редкое.
Так вот, это "чу'дное мгновенье", когда я увидел её третий раз в жизни, заслуживает развёрнутого описания. Она оказалась замечательно одета, т.е. в том смысле, что я никак не ожидал увидеть её здесь в таком наряде. На ней был домашний халат, довольно тёплый, возможно, с маминого плеча, золотисто-коричневого цвета, без каких-либо узоров и дополнительных украшений. Одет он был если не на голое тело, то почти на голое, и открытые тапочки на босую ногу весьма гармонировали с этим одеянием. Халат доходил её чуть ниже колена, открывая в меру полные, хорошо ухоженные икры. На голове было что-то вроде лихо закрученной высокой чалмы из ещё непросохшего махрового полотенца. Полотенце было палевого цвета, несколько более светлого, чем халат. Согласитесь – странное облачение для юной студентки в летнем лагере. И в таком виде она прогуливалась на воздухе по одной из местных асфальтированных аллеек, она одна – все остальные девушки были, как положено, в штанишках и юбочках полуспортивного покроя. Она гордо и величаво вышагивала во главе группы подруг, на фоне которых выглядела, как аристократка на фоне служанок. То ли русская барыня, то ли древнеримская матрона.
Этот самый халат, который в домашней обстановке показался бы любому простым и даже затрапезным, здесь и сейчас играл роль атрибута её естественной власти. По праву красоты она везде могла себя чувствовать как дома, а высокий головной убор, вроде бы небрежный и случайный, подчёркивал её природную царственность. Надо добавить что, может быть, из-за этой импровизированной чалмы, может быть, из-за высоких каблуков, она казалась здесь на голову выше всех остальных особ женского пола. Это было тем более удивительно, что я, из-за своего среднего роста ревниво относящийся к женской величине, раньше пришёл к выводу, что она всё-таки заметно ниже меня. И, кроме всего прочего, халат своей тяжестью и складками подчёркивал скульптурную стать фигуры и оттенял светлое золото волос, выглядывавших снизу из-под полотенца.
У меня было достаточно времени, чтобы сообразить, что прекрасное преображение моей избранницы объясняется тем, что она возвращается из бани. Это подтверждала и распаренная розовость лиц остальных участниц события, так сказать, кордебалета. И время было весьма подходящее, под ужин. Но если я и видел кого-то в этом лагере, так только её, сияющую Афродиту. Всё остальные существа представлялись мне в те мгновения лишь невзрачными обоями, среди которых одиноко обитал великолепный портрет. Я даже возгордился в душе тем, что ухитрился выбрать такую девушку, сумел разглядеть её, так сказать, в бутоне, в упаковке отталкивающей банальности. Воистину, у меня должно было захватить дух. Но не за этим ли я тащился сюда по лесам и полям?
Но я, что' я был для неё? Случайный знакомый, пусть чем-то и заинтересовавший девичью невинность, но не до такой степени, чтобы разрушить её сон. Я и не старался. Что во мне вообще было интересного? Из леса я вылез небритый, неопрятно одетый, от меня пахло потом, и у меня горели глаза. Этакий фавн! Почему я полагал, что она пойдёт за мной?
Всё случилось, как и должно было случиться. Я всё-таки дозвался её, повторив свой зов как можно более громко и убедительно. При этом добрый десяток пар женских глаз очень коротко скользнул по мне и вновь обратился к ней, как будто ничего не произошло. А откуда-то из самой глубины лагеря я почувствовал ещё и пару тяжёлых, но опасливых мужских взглядов. Она подошла, для этого ей потребовалось сделать всего несколько шагов, и я ещё раз, теперь тихо, назвал её по имени. Ясно было, что она узнала меня, но не обрадовалась. Она сразу же, без объяснений и разговоров, вернулась к подругам. Я только и успел сказать ей, что я, мол, здесь. Все-таки, по-моему, сообщил, что у меня здесь палатка и что я в походе. Но ей не надо было этого знать. В такой ситуации ей следовало немедленно сделать выбор: с кем она – со мной или со своими ни чем не запоминающимися подругами. Она, не на секунду не задумавшись, предпочла подруг. В конце концов, какие она могла на меня делать ставки? Замуж я её пока не звал, да она и не собиралась так рано – сначала надо закончить институт. Да и выгодный ли я жених? Родители ей бы такого точно не посоветовали. Да они никого такого, скорее всего, с роду не видывали и не предполагали. Отчего так любят снимать фильмы, где влюбляются в инопланетян? Я, в общем-то, тоже из интеллигентной семьи, т.е. в том смысле, что из обычной, но отчего я такой другой? Был ещё такой мультфильм про голубого щенка, которого не любили из-за масти; потом этот мультфильм из-за того, что слово "голубой" приобрело устойчивое нецветовое значение, перестали показывать.
Она отошла, повернулась ко мне спиной и о чём-то разговаривала с подругами – так как будто меня и не было. А был я здесь один чужой, на фоне не привыкших к моей фигуре ворот, неуместный, одинокий, не то чтобы неуклюжий, но, пожалуй, несчастный. Ещё какое-то время я смотрел ей в спину с надеждой, и она чувствовала этот взгляд, он наверняка обжигал её позвонки даже сквозь толстую байковую ткань халата. Но она больше не повернулась ко мне, никак не показала, что ещё обо мне помнит. О чём они разговаривают с подругами, я не мог расслышать, но догадался, что она пыталась дежурными фразами отвлечь их любопытство от моей непонятной персоны. Я понял то, что должен был понять: таким поклонником она здесь хвастаться не считала нужным и полезным. Очень легко она от меня отказывалась. Вот уже и скрылась она в своём сонме из глаз моих в каком-то сараистом деревянном строении. Наверное ужинать пошли. Несколько горячих и липких секунд я ещё по инерции созерцал опустевшую вытоптанную площадку, которую только что попирали её ноги – и окончательно понял, что нечего ждать.
А музыка всё надрывалась, возвращаясь к одному и тому же по наезженному кругу: "Свежий воздух – мне стало хорошо!.." Я бы не сказал, что мне было хорошо в тот момент, и воздух вовсе не казался мне свежим, хотя вокруг в изобилии и была представлена выделяющая кислород растительность. Голос певца звучал для меня как издёвка. Впрочем, мне не хотелось бы дать ему пощёчину. Он сам о чём-то грустил, он словно меня понимал. Ведь и ему, по сюжету песни, сначала не хватало свежего воздуха, и только потом он его обрёл и стал дышать лихорадочно, как, может быть, дышит умирающий человек из кислородной подушки.
Я с трудом повернулся на месте кругом и вышел за ворота. Никто меня не сопровождал даже взором – как пришёл я не званный, никому не нужный, так и уходил никем не привеченный и не замеченный.
Удивительно иногда человеческим настроениям соответствует не только случайная музыка, но и погода. Как раз в те минуты, когда я начал отдаляться от лагеря и приближаться к своей палатке окончательно назрела гроза. До этого целый день по небесам ходили сероватые облака, изредка роняя вниз отдельные холодные капли. Но облака эти были небольшие и нечастые, к тому же ветерок раздувал их, так что, в основном, день был всё-таки солнечным. Но тут, кажется, как раз за то время, пока я топтался у ворот, всяческие дуновения прекратились, а облака сплотились в монолитную серую массу, которая стремительно продолжала темнеть. В этом мрачнеющем затишьи было не столько жарко, как влажно, и, очевидно, очень упало давление. Я потел всю дорогу сюда, но сейчас прохладный ветер перестал освежать моё усталое тело, горячий пот заливал глаза. И даже лагерный репродуктор прекратил вещание, словно затаился. Никто мне больше не пел про "свежий воздух"…
Я брёл прочь, стараясь не оглядываться, и ощущение у меня после короткой встречи с мечтой было такое, точно я только что получил по лицу и уже некому дать сдачи. Трудно было дышать, в душе не находилось ни слов ни ругательств, ничего. Я словно подавился чем-то сухим, а откашливаться было нечем. Погружённый, вернее утопленный в своей обиде, я вряд ли тогда мог обращать существенное внимание на изменения погоды, но на моё подсознание они исправно действовали. Я механически прибавлял шагу по направлению к палатке, втягивая голову в плечи, так, как будто дождь уже начался.
Напряжение в природе и во мне всё нарастало. Где-то рядом, но как за пеленой, копошась на влажных зонтиках дудника, оглушительно жужжали и трещали сумасшедшие от сгустившегося атмосферного электричества насекомые. Запах ото всего этого шёл сладкий, но с явной трупной примесью. И у меня в висках раздавался хруст и треск, словно от переживаемой боли и борьбы я сделался пустым как скорлупа.
Вскоре уже пришлось бежать. По пути ливень смывал с меня лишние амбиции вместе с потом и пылью дорог. это было похоже и на взрыв, и на прорвавшийся плач. Несколько раз я падал, поскальзываясь на глине неровной тропинки, и один раз даже закатился довольно глубоко в какую-то канаву. Наверх пришлось выкарабкиваться на четвереньках сквозь немилосердно кусающуюся крапиву.
Когда мне добраться до палатки, дождь уже почти кончился, но сам я был весь мокрый и грязный. Благо, что к вечеру стало заметно теплее, чем было с утра. Вероятно, эта гроза пришла как авангард надвигающегося тёплого фронта.
Ни о каком костре, конечно, и думать не приходилось. От усталости и неудачи я едва держался на ногах. С большим трудом стащил с себя прилипающую мокрую одежду, выпил из горла' полбутылки предварительно заготовленной водки и уснул тяжёлым сном на надувном матрасе. Палатка, надо сказать, неплохо выдержала натиск вдруг свалившихся на неё стихий, и я даже успел в качестве утешения про себя отметить, как мне хорошо удалось её поставить. Спать было несколько сыровато, но не холодно. Я бы наверняка прострадал первые полночи морально, снова и снова пережёвывая случившееся, если бы так не вымотался физически. И водка помогла. А на следующий день мне – хочешь не хочешь – нужно было возвращаться в город, выходные кончались.
Погожее утро позволило слегка просушить пожитки. Но недолго я сидел и нюхал сосны, мне стало тоскливо. Все мои мысли насчёт того, чтобы пойти и попытать счастья в лагере ещё раз, уже в уме разбивалась в брызги, как разбивается очередная волна об каменный утёс. Нечего больше позориться. Я собирался, дрожа не то от омерзительной сырости, не то от вновь пробудившихся мук самолюбия.. Не оглядываясь я отправился в том направлении, откуда пришёл сюда. Мне было больно смотреть даже на стену не взятой мной крепости. Всё-таки подлая фразочка насчёт свежего воздуха напоследок ещё раз долетела и коснулась моих ушей прежде, чем я дошагал до далёкой автобусной остановки.
В общем-то больше не было ничего. Разве что, совсем недавно пришло мне почему-то в голову, что если кого она и напоминала из известных героинь русской литературы, то Аглаю из «Идиота». Только вот сам-то я на идиота не тянул. Может быть, что-нибудь такое во мне и было, но под очень уж тяжким спудом – слишком я был покрыт разнообразными мышцами, слишком много, при всех моих комплексах, у меня было ещё и здорового самомнения. С равным успехом я мог бы себя вообразить и каким-нибудь одиноким рейнджером, но это было бы уж совсем смешно и пошло. Представьте себе агрессивного идиота, выходящего из дремучего леса. Очень уж извращенный вкус и воображение надо иметь, чтобы полюбить такого индивидуума. Да и красавцем я не никогда не был – так что, скорее всего, мог бы встречных особ противоположного пола, вот так, внезапно появившись, только напугать. Радуется ли волк от того, что он страшный?
Классический сюжет про красавицу и чудовище на этот раз не получил развития. Интересно, как часто подобные вещи случаются в реальности? И зачем вообще Провидение подсовывает нам всевозможные соблазны? Есть ли в моём рассказе какая-нибудь мораль? Могу ли я её вывести хоть теперь, умудрённый возрастом, ученьем и горьким опытом? Ничего кроме просветлённой грусти я не чувствую. Дай вам Бог всем счастья и долгой жизни, тем, кто тогда был в том студенческом лагере и тебе или – если хотите – ей, той, из-за которой всё это произошло. Всё-таки надеюсь, я её не скомпрометировал, скорее, наоборот, наличие мужчины со стороны должно было придать её слишком правильному, а потому скучноватому облику ореол таинственности и пусть даже лёгкой порочности, которая ведь способна вызывать такую жгучую зависть… А у меня жизнь пошла совсем по другому пути.
И вот, всё-то мне вспоминаются дождливые вечера, такие вечера на свежем воздухе, когда из-за излишней сырости нельзя было развести порядочного огня. Я понял, что некая мечта давно преследует меня, тоска по костру.
Но что мне мешало сейчас пойти в лес, наломать сушняка и запалить такой костёр, какой мне заблагорассудится? Мешал дождь, всё тот же дождь. Только теперь он был осенний, холодный и сумрачный, и беспросветный. Я пожалел, что не научился у одного моего потерянного друга разводить огонь в такую погоду. Он имел терпение и аккуратность раскалывать тонкие веточки пополам вдоль, так что сухая сердцевина оказывалась снаружи. Такие дровишки горели даже под непрекращающимся дождём. Ему не нужно было даже бумаги на растопку. А потом этот друг стал бизнесменом. И это тоже очень грустно. Т.е. не то, что он стал бизнесменом, а то, что мы с ним вдруг перестали друг друга понимать, словно начали говорить на разных языках. Нам друг от друга стало тяжело и скучно.
А теперь я Бог знает где, сижу в какой-то избе и придумываю, чтобы такое ещё мне изобразить на терпящей всё бумаге. И хочется мне эту исписанную бумагу сжечь – что тоже вполне в традициях – но не в печке, а на вольном воздухе. А погода всё не фортит. И не настолько рукастый я мужик, чтобы с нею спорить – не то, что мой былой друг. И голова болит от духоты, и глаза ест. А может быть, это просто плакать хочется?
Я повадился совершать прогулки на полустанок. Вот уж чего от себя совершенно не ожидал. Лес, к которому вроде бы так стремилась из города моя душа, перестал привлекать меня. Даже найденные грибы не радовали. А в последний раз я отыскал воистину хорошие грибы – крепенькие, уже по холодку созревшие, бордового цвета подосиновики – штук наверно с десяток. Бабка, наконец, даже меня похвалила. Но тут мой энтузиазм и кончился, я без всякого интереса поедал жареные сокровища, пялясь в мельтешащее чёрно-белое окно телевизора и ровным счётом ничего не понимая из того, что там происходит. О чём я думал? До не о чём, я тосковал.
Душа всё время куда-нибудь стремится – проходит лес насквозь и снова через поле идёт к лесу. Редко она отдыхает, и во сне всё куда-то идёт. Я сам не понимаю свою душу? Чего она хочет? А я кто такой? Тот, который не понимает собственную душу. И что он, т.е. я понимаю? Даже тоска неуловима – не то что счастье. Сколько не рационализируй, а легче не делается. И дождь, дождь, дождь идёт.
Полустанок низкий – здесь уже не высокие платформы. Но всё же асфальт, и этот асфальт без устали как открывалки ковыряют острые дождевые струи. Всё блестит от единственного фонаря, если дело происходит вечером. Поезда проходят редко-редко. Я с тоской и завистью смотрю им вслед, даже товарнякам, куда бы они ни шли – в Москву или из Москвы. Уже и с завистью. И чего я здесь сижу? И надоело мне совсем. И ничего уже точно не получается. Зимы что ли ждать? Или вернуться? И – конечно хочется вернуться. Потому что я люблю свою жену, свою дочку. Но нужен ли я им, ждут ли они меня? Имел ли я право бросать их вот так? И чего я вообще хотел добиться? Как часто человек не может самому себе дать отчёт в том, что и для чего или почему он что-то делает.
Я был в отчаянии, опять в отчаянии. Книга не получалась. Ещё месяц назад я был гораздо ближе к её успешному созданию, чем теперь. А я уже здесь месяц. Значит приехал я зря? Значит теперешнее моё положение только отдаляет меня от поставленной цели? Подобные вопросы мучили меня, как постельные клопы – я морщился и чесался. Все мои надежды на какие-то перемены в судьбе не оправдались. Я опять потерпел поражение – как и в тот раз, когда был отвергнут, избранной мною девицей у ворот студенческого лагеря. Жизнь отвергала меня, я ей не нравился. Может быть, я и не заслуживал снисхождения? Я плакал вместе с дождём.
Вскоре это стало невыносимо. Я упаковал свои вещи, попрощался и рассчитался с бабкой и, пообещав как-нибудь ещё её навестить, отправился в Москву.
В электричке мне сразу сделалось легче. Как будто груз какой-то свалился с плеч. А всего-то я выгрузил рюкзак на полочку над окном. И вспомнил я, что подобное облегчение испытывал и тогда, когда ещё только ехал сюда. За окном всё лили дожди. На то и осень. Давно, пожалуй, не было такой дождливой осени. Всякие были – сухие, морозные, тёплые, а вот по-настоящему дождливой…
Такого типа наблюдения и пустые рассуждения отчего-то наполняли тело довольством, и на лице моём сама собой начала расплываться улыбка. Эйфория росла по мере того, как электричка приближалась к Москве. Для светлых надежд не было никаких оснований, но я ничего не мог с собою поделать. Сердце учащённо билось, и словно рвалось вперёд, словно хотело лететь сквозь дождь, как эмблема впереди поезда. Мне даже было стыдно, что я вдруг так расчувствовался. Да, я чувствовал себя беспомощным, слабым и размякшим. Может быть, я становился нежным, снова наконец нежным, как в далёком розовом раннем детстве. И что это мне давало? Может, кто-нибудь меня пожалеет? Вот такого, нового? Мне было очень страшно, и в то же время физиономия моя сияла. Я готов был радоваться и восторгаться всему, абсолютно всему, что неслось мне сейчас навстречу. И стук колёс поддерживал во мне это странно торжественное настроение, он попадал в резонанс с моим ускоренным пульсом – от этого даже перехватывало горло. Слава Богу, никто не сидел напротив и не смотрел на меня.
По стёклам раздавленными червяками ползли водяные струи, ничего почти не было видно кроме теней и мокрых мерцающих фонарей. Вдруг на этом стекле как на экране я начал видеть сюжет своей будущей повести, и это тогда, когда мне уже до вокзала оставалось каких-нибудь двадцать минут. Неужели нужно было проделать весь этот путь, провести в полузаточении месяц и вот так бесславно вернуться назад, чтобы это произошло? Неисповедимы пути Господни? Да и могу ли надеяться я, что следую именно этими путями? Во всяком случае, теперь я катился по рельсам и мысли мои катились как по рельсам. Всё я увидел и понял, что действительно могу это написать. И у меня осталось ощущение, что писать это не напрасный труд, что это было нечто стоящее, такое, что и спустя несколько дней или недель захочется и можно будет воспроизвести.
Не хочу раскрывать свои тайны, поскольку, если я попытаюсь рассказать эту историю вкратце, она может вам показаться банальной и нарочитой одновременно. Так зачем же я собрался такую историю писать? В том-то и дело, что вы её не видите, а если бы увидели целиком уже законченную, может быть, и переменили бы своё мнение.
Жалко мне было расставаться со своим сюжетом, вдруг так счастливо хлынувшим через плотины моего тоскливого застоя. Но что поделаешь, нужно уже было выходить из поезда. Приехали.
Как только я сошёл на платформу Москвы, переживания уже совсем другого рода нахлынули на меня. Я даже испугался, что забуду напрочь только что явившееся мне в электричке. От тяжести проблем подкашивались ноги. Дождь и здесь продолжал идти, так что рюкзак быстро промок, и лямки всё сильнее тянули меня назад и вниз. Надо было торопиться, но быстро идти я не мог, потому что не знал, ждут ли меня дома. Впустят ли меня вообще домой? Что мне там предстоит? Мольба о прощении? Битва с соперником? Или счастливое примирение? Вот бы счастливое примирение! Но в мечты свои я не верил, давно не верил. Всё будет как-нибудь не так, как я предполагаю, совсем не так, но не хорошо, точно не хорошо. Только бы – не совсем уж плохо. Не совсем плохо – одна надежда. От таких "надежд" начинали трястись не только поджилки, но и руки, и я сам себе представлялся никчёмным, страдающим паркинсонизмом старикашкой. Может быть, лучше сразу стать бомжом? И с вокзала уходить не надо…
К счастью, на этот раз меня не привлёк такой исход. А почему к счастью?.. Я вышел на вокзальную площадь. Она показалась мне странно пустынной. Конечно было поздновато, но не настолько. Пожалуй, таким пустым я видел это место только один раз, когда однажды прибыл сюда под утро из Сибири.
Мне почему-то захотелось перейти на другую сторону площади и заглянуть за Ярославский вокзал. Может быть, я просто боялся идти домой и оттягивал время. Хоть и не самым лучшим времяпрепровождением может показаться пешая прогулка с тяжёлым рюкзаком под дождём. Там, за Ярославским вокзалом, может быть, пива куплю и успокоюсь. Хоть немного. Почему-то такой поступок всё-таки показался мне разумным.
Я никого не встретил в подземном переходе. Вход в метро тоже был уже закрыт. Рано. Впрочем, может быть, теперь раньше закрывают. С каким-то неясным предчувствием я поднялся по ступенькам и направился в проход между зданием метро Комсомольской и Ярославским. Там, впереди, почему-то было темно.
С каждым шагом сердце всё больше съёживалось у меня в груди, но я не останавливался. Я хотел убедиться, что не грежу, или, если грежу, то это уже тотальный всепоглощающий бред.
За вокзалом не было никаких путей. Вообще не было ничего, что можно было бы назвать Москвой, когда-то шумевшим и испускающим здесь зловония большим городом. Там был какой-то лес, вернее даже не лес, а гарь. Именно лесная гарь. Чёрное пространство, посыпанное серебристым пеплом, с кое-где торчащими из него обгорелыми пнями. И пахло здесь гарью, вот теперь я совершенно точно это ощутил. Я пытался смотреть по сторонам в поисках хоть каких-нибудь стен и теней. Ничего не было. До самого горизонта – прямо, влево и вправо – выгоревшая, мокрая лесная равнина. Дождь ненадолго перестал, и над этой пустыней голубели холодные звёзды, и луна, почти полная луна – поэтому было светло, а не от фонарей.
Я оглянулся. Вокзал стоял. Одиноко – как берёзка в поле. Невольно вспомнилась эта садистская народная песенка. Значит у меня ещё есть пути к отступлению? Ещё можно войти в эти ворота, чтобы очутиться в нормальном мире?
Помнится, на фасаде этого чуда архитектуры чуть ли ни врубелевские изразцы. Этакие анемичные бледно-розовые земляничины, порождения декаданса. А крыша – как сладкий пряник, позеленевший от времени. Мне тоже снилась такая огромная земляника, она всегда оказывалась водянистой и несладкой. А подобные крыши всегда во сне очень опасны, но тем более соблазнительны – зачем-то же надо на них лезть…
В горле першило от остатков дыма. Всё сгорело. Неужели? Это обескураживало. Попробую вернуться домой. Мне бы вот только войти в этот вокзал и выйти оттуда. И тут я засмеялся, потому что когда-то, исследуя на досуге именно этот вокзал, на одних и тех же дверях его с двух разных сторон обнаружил солидные надписи «Нет входа» и «Нет выхода». Но люди всё же входили и выходили. Авось и я пройду. Во всём космосе остались только вокзал и я. И вот, мы медленно идём на стыковку.
Три
«Она одуванчиком тела
Летит к одуванчику мира…»
В. Хлебников
Под самый Новый Год у нас умерла мама. В этот день мы не учились. Тётка позвонила из больницы часов в 11 утра и сказала. Мы только что встали – отсыпались после полугодия.
В общем-то мы ждали, что мама умрёт, но это всё равно произошло неожиданно. Она болела давно, ей становилось то лучше, то хуже. И не то чтобы мы хотели, чтобы это продолжалось вечно, но… Болезнь и смерть всё-таки две разные вещи.
Когда я услышала, то не знала, что сказать. Слова застряли в горле. Во рту сразу сделалось горько и сухо.
– Мне приезжать? – выдавила я из себя.
Тётка вздохнула и помолчала.
– Да нет, я думаю, сегодня не надо, – извлекла она. – как там маленькая?
Маленькой она называла мою сестру, которая всего-то на четыре года была моложе меня. Я посмотрела не неё, она спокойно сидела в кресле, в углу, и что-то делала со своей маленькой, видавшей виды игрушкой, с медвежонком молочно-кофейного цвета .
– Нормально, – ответила я.
– Сидите дома. Похороны всё равно будут не раньше, чем завтра. А, скорее всего, после Нового Года.
– А где она?
– Кто? А, в морге.
Мне хотелось ещё о чём-то спросить, но я никак не могла понять или вспомнить о чём. Слово морг показалось мне незнакомым и больно резануло слух, хотя я, разумеется, его уже тысячу раз слышала и не было в нём ничего особенного. Но сейчас это звучало как-то неуместно. А что, неужели и я когда-нибудь очутюсь в морге? И я задумалась, можно ли вообще как-нибудь правильно употребить глагол очутиться в первом лице единственного лица, и засмеялась.
– Ты чего? – спросила тётка встревожено.
– А? – опомнилась я и провела ладонью по лицу сверху вниз. Ладонь была холодной и влажной – словно не моя.
– Вы там смотрите. Держитесь, – сказала тётка. – Я может к вам приеду. Сегодня наверно не успею. А то вы к нам приезжайте. На Новый Год-то… Хотя эти похороны… В общем, надо обдумать. Завтра я позвоню. Или нет, сегодня, вечером. Если что, завтра звоните. Пока.
– Пока.
Мы повесили трубки. Сначала она. Потом я.
– Мама умерла, – сказала я сестре.
– Я поняла, – сказала она. И мне почему-то захотелось ударить её по лицу.
– От рака? – спросила сестра.
– Откуда ты знаешь? – спросила я.
– Но она же болела раком.
– Ну и что?
– Ну вот, от рака и умерла.
– Прекрати.
– Что?
– Ты не понимаешь?
Сестра отрицательно помотала головой.
– Хочешь есть? – спросила я.
Я пошла на кухню что-нибудь приготовить. В холодильнике было почти пусто, и денег оставалось очень мало. «Господи, как же мы будем встречать Новый Год?» – задала я себе вопрос почти вслух и поймала себе на том, что говорю, как мама. Что ж, кому теперь, как не мне, придётся теперь играть эту роль?
Сестра вдруг притопала из комнаты. Не успела я даже поставить жариться яичницу.
– Мама, правда, умерла? – спросила она.
– Почему ты босая?
Она посмотрела на свои голые ступни и не нашла в них ничего предосудительного.
– Ну и что? – сказала она. – Мама, правда, умерла?
– А ты не веришь?
– Тётя позвонила и сказала, да?
– Да, – я разбила одно за другим три куриных яйца и вылила их содержимое на сковородку.







