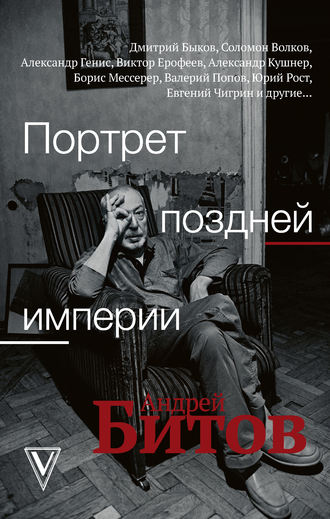
Коллектив авторов
Портрет поздней империи. Андрей Битов
По занятой героем «Пенелопы» позиции его нетрудно отождествить с интеллигентом. Хотя бы уже потому, что он ни к кому не примыкает, наоборот, уклоняется от недреманной помощи коллектива, всячески лелеет свою независимость. Как и другим персонажам Битова, ему свойственна насмешливая корректность самоидентификации. Со своими эмоциями он справляется – или не справляется – сам. Т. Ю. Хмельницкая – остроумно, но по касательной – заподозрила молодого писателя лично «в изощренном любовании своей томительной грешностью». Она же, добравшись до «запасников души» автора «Пенелопы», в письме к Ирене Подольской резюмировала: «Меня поразило, что в его анализе человека нет демаркационной линии между помыслом и поступком и все, что живет в сознании и даже подсознании, автором как бы реализуется».
В «Пенелопе» герой писателя изображен в облике «приниженного и растерянного» собственными постыдными чувствами «интеллигента без интеллекта». И все равно – баланс его душевной жизни поддерживается единственно представлением о самостоянии личности. Сюжетная интрига рассказа мотивирована как раз случаем нарушения этого баланса.
Во времена «развитого социализма» битовский «маленький человек» несомненно глядел «антигероем». Априорную ценность представляет заложенное в нем сознание, его рефлексия, а не его поступки, сознание раздражающие, но не определяющие. Из объекта чужого воздействия человек превращается в субъект, бередящий свою и чужую жизнь. Самый верный и естественный путь его развития – творческий. Драма в том, что вступить на него не всякому дано.
Герой Битова – участник трагедии, внешнему миру не нужной и не видимой. Делать ее чьим-либо достоянием не в его природе и уж точно не в его правилах. И в этом, экзистенциальном, смысле он тоже – антигерой. Как, впрочем, и многие другие персонажи молодой ленинградской прозы 1960-х.
Вдохновленная толстовского типа интуицией, писательская задача Битова определенна: исследовать диалектику уединенной души в образе своего современника – с целеустремленной «энергией заблуждения». Лишь не познав самого себя, удостоверившись в неисчерпаемости собственного сознания, герой Битова поражается загадкой существования чужого «я», «не себя».
Это ясно уже по «Пенелопе». Само собой, и после «Пенелопы» художественная мысль Битова в этом направлении не притормаживает. Появляется, например, Митишатьев из «Пушкинского дома» − по мнению Омри Ронена, едва ли не единственный доросший до общезначимого классического типа персонаж новой русской прозы.
Укладывающиеся в рамки обычной житейской истории сюжеты рассказов и небольших повестей Битова срастаются в неканонические художественные образования. Их модель предугадана в повести «Сад»: страдания главного персонажа просветляются и опираются на вовлеченное в действие эссеистическое суждение, раздвигающее сюжетный занавес. Художественная интуиция писателя преодолевает «жанр». Вместо «жанра» структурообразующей единицей прозы выделяется «текст». Степень рефлексии по поводу собственного текста у Битова становится такой, что произведение само сворачивает к автокомментарию, не может без него существовать.
Дух поэтического осмысления жизни, дух эссеизма утвержден у Битова довлеющим себе творческим законом. Человек на глазах превращается в мыслящий тростник. Порой – в камыш, инакомысленно шумящий. Неизбежным становится постулированный теоретиками постмодернизма авторский «пародийный модус повествования» как экзистенциальная константа текста.
Я хочу сказать, что мыслям о человеке в прозе Битова с годами становится просторней, чем самому человеку. В ранних вещах интриговало, кто у Битова спорит и с кем, позднее стало интереснее – о чем речь. «Он подумал или я сказал?..» – сомневается у него сам повествователь. То есть говорит в итоге о том, о чем жизнь молчит.
Извлечем из недоуменной фразы Битова и нечто житейски более внятное: люди уходят, а отношения между ними остаются. Неразличимая связь человека думающего и человека говорящего в предложенной Битовым огласовке есть идеальное выражение, формула человеческой близости.
Позволю себе на ходу изменить заглавие этого очерка, пусть будет:
«МАСТЕР ИНТИМНОГО ДВУХГОЛОСИЯ».
Свернем поэтому речь к материи более тонкой, чем «постмодернистская чувствительность».
Карабкаясь по ступенькам заключенного в вопросе «Он подумал или я сказал?..» смысла, мы подбираемся к главному в Битове как писателе, к тому в нем, что дано ему от природы. К его способности достоверно рисовать потаенные движения человеческой души. Мера психологической рельефности – вообще определяющая мера художественного повествования. Без нее любая проза рассыпается в прах.
Между Битовым и постмодернизмом разница – не «дьявольская», а «Божеская». Утрата априорных, издревле данных стандартов добра и красоты у идеологов постмодернизма вела к «деконструкции» Божественного Слова, вообще к «эрозии веры». Даром что характерное для постмодернизма «деконструктивное переживание» обналиченного историей типа культуры привело в СССР (по крайней мере, в случае Битова) к обнадеживающему просвету. «Деконструкция» коммунистической утопии, эрозия кодекса чего-то там «строителей» и крах атеизма направляли «поэтическое сознание» в область, очищенную от этих фантомов, к откровению о возможности откровения.
Типологически Битова можно назвать «постмодернистом без постмодернизма». «Постмодернист» он в такой же степени, как, скажем, Лоренс Стерн. Если искать ближайший по времени аналог прозе Битова, то лучше всего снять с полки «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», роман, законченный ровно двумя столетиями прежде, чем ленинградский прозаик взялся за свою главную стернианского размаха вещь – «Пушкинский дом». Взялся, не подозревая до поры о дальнем, но несомненном родстве. Английский, честертоновского типа, парадоксализм Битову заметным образом свойствен. Даром, что ли, наш прозаик родился на следующий год после того как Честертона не стало? Пишу это, потому что сам Битов такого рода хронологические сближения пестовал, календарь чтил и всякое свое творение подписывал днем, месяцем и годом его завершения.
В книгах второй половины 1960-х – «Такое долгое детство» (1965), «Дачная местность» (1967), «Путешествие к другу детства» (1968), «Аптекарский остров» (1968) – герои странствуют по направлению к самим себе, и их неосязаемый опыт сто́ит соблазна встать «твердой ногой на твердое основание» «неподвижного мира».
Автор и его герои при первой же оттепельной возможности не замедлили освободиться от докучных служебных обязанностей и тут же отчалили от захламленной пристани. Битов вообще самый скорый на подъем отечественный автор, ничем до конца не очарованный странник нашей словесности. В чем тоже подобен Стерну и вообще англичанам. Написал даже как-то вместо «автобиографии» – «автогеографию».
Покинув родные места, естественно задать вопрос: «Где родина?» «Смысл путешествия в том, что вернешься домой, – думает Битов, – кто вернется». «Путешествие молодого человека» в знакомую с младенчества Среднюю Азию предоставляло возможность «не вернуться» исключительно гипотетичную. Все вертелось вокруг проблемы «домосед» – «бродяга», вокруг диалектики «приятной во всех отношениях».
Много более серьезными, онтологическими, оказались встречи с Арменией и Грузией – уже не только (или не столько) с людьми, но – с отечеством «неземным», с храмами, вписанными в природу и «не заслоненными человеком и делами рук его», встречи с умозрением о «Божественной норме», завершившиеся принятием Символа веры. Поэтому и позже в эти края его так влекло, и сюда он привел «последнего из оглашенных»: «И потянуло меня вспомнить одну точку в Грузии, где меня покрестили наконец в мои сорок пять лет как старинного князя…»


