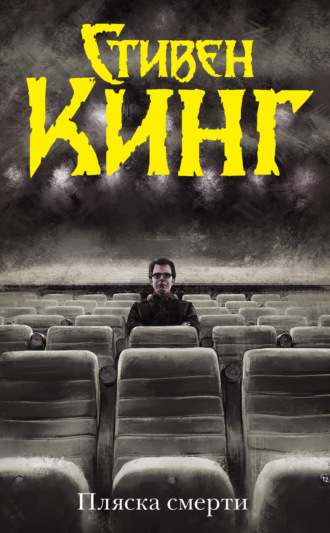
Стивен Кинг
Пляска смерти
3
И вот вам вопрос: как получилось, что эта скромная готическая история, которая в первоначальном варианте едва занимала сто страниц (Перси уговорил свою супругу добавить подробностей), превратилась в своеобразную эхокамеру культуры? Теперь, спустя сто шестьдесят четыре года, мы имеем овсянку «Франкенберри» (близкую родственницу двух других отменных завтраков – «Графа Чокулы» и «Буберри»[49]); старый телесериал «Мюнстеры»[50] [The Munsters]; конструктор «Аврора Франкенштейн» (в собранном виде глаз юного моделиста порадует фосфоресцирующее создание, бредущее по фосфоресцирующему кладбищу); и выражения вроде «вылитый Франкенштейн»[51] для обозначения чего-то предельно уродливого.
Наиболее очевидный ответ на сей вопрос – фильмы. Это заслуга кино. И это будет верный ответ. Как указывалось в литературе о кинематографе ad infinitum[52] (и, вероятно, ad nauseam[53]), фильмы великолепно справились с ролью культурной эхокамеры… возможно, потому, что в мире идей, как и в акустике, эхо удобнее всего создать в большом пустом пространстве. Вместо мыслей, которые дают нам книги, фильмы снабжают человечество большими порциями инстинктивных эмоций. Американское кино добавило к этому яркое ощущение символичности, и получилось ослепительное шоу. Возьмем в качестве примера Клинта Иствуда в фильме Дона Сигела «Грязный Гарри» [Dirty Harry]. В интеллектуальном плане этот фильм представляет собой идиотскую мешанину. Но по части символов и эмоций – юная жертва похищения, которую на рассвете вытаскивают из цистерны, плохой парень, захватывающий автобус с детьми, каменное лицо самого Грязного Гарри Каллахена – фильм великолепен. Даже самые отъявленные либералы после фильмов типа «Грязного Гарри» или «Соломенных псов» [Straw Dogs] выглядят так, словно их стукнули по голове… или переехали поездом.
Есть, конечно, фильмы, в основе которых лежит идея, и они бывают очень разные – от «Рождения нации» [Birth of a Nation] до «Энни Холл» [Annie Hall]. Однако до недавнего времени они оставались прерогативой иностранных режиссеров («новая волна» в кино, прокатившаяся по Европе в 1946–1965 гг.), а в Америке прокат этих фильмов всегда был сопряжен с финансовым риском; их показывали в «арт-хаузах», если показывали вообще. В этом отношении, как мне представляется, можно неверно истолковать успех фильмов Вуди Аллена в более поздние годы. В городских районах Америки во время показов его фильмов – и таких фильмов, как «Кузен, кузина» [Cousin, Cousine] – в кассах выстраиваются очереди. Как говорил Джордж Ромеро («Ночь живых мертвецов» [Night of the Living Dead], «Рассвет мертвецов» [Dawn of the Dead]), «сценарий весьма неплох», но в глуши – в кинотеатрах-мультиплексах в Давенпорте, Айова, или Портсмуте, Нью-Хэмпшир, – эти фильмы демонстрировались неделю-другую, а потом исчезали. Американцы предпочитают Берта Рейнолдса в «Смоки и Бандите» [Smokey and the Bandit]: когда американцы отправляются в кино, они хотят видеть действие, а не шевелить извилинами; им нужны автокатастрофы, заварной крем и бродячие чудовища.
Как ни смешно, потребовался иностранец – итальянец Серджо Леоне, – чтобы сформировать архетип американского кинематографа, определить и типизировать то, что хотят увидеть в кино американцы. То, что сделал Леоне в фильмах «За пригоршню долларов» [A Fistful of Dollars], «На несколько долларов больше» [For a Few Dollars More] и «Хороший, плохой, злой» [The Good, the Bad, and the Ugly], нельзя даже назвать сатирой. В особенности «Хороший, плохой, злой» – грандиозное и удивительно вульгарное утрирование и без того утрированных архетипов американских киновестернов. В этом фильме пистолетные выстрелы звучат с оглушительностью атомных взрывов; крупные планы тянутся минутами, перестрелки – часами, а улицы маленьких западных городков кажутся широкими, как современные шоссе.
Так что если кто-то ищет причину, которая превратила красноречивого монстра Мэри Шелли, с его образованием, полученным из «Страданий юного Вертера» и «Потерянного рая», в популярный архетип, наилучшим ответом будет – фильмы. Бог свидетель: кино превращает в архетипы самых неподходящих субъектов: жители гор в засаленных лохмотьях, покрытые грязью и вшами, становятся гордым и прекрасным символом фронтира (Роберт Редфорд в «Иеремии Джонсоне» [Jeremiah Johnson] или любая картина «Санн интернешнл»); полоумные убийцы – представителями умирающего американского духа свободы (Битти и Данауэй в «Бонни и Клайде» [Bonnie and Clyde]); и даже некомпетентность становится архетипом, как в фильмах Блейка Эдвардса / Питера Селлерса, где покойный Питер Селлерс играет инспектора Клузо. Из таких архетипов американское кино создало свою собственную колоду Таро, и большинство из нас знакомы с ее картами, такими как Герой Войны (Оди Мерфи, Джон Уэйн), Сильный и Немногословный Блюститель Порядка (Гэри Купер, Клинт Иствуд), Шлюха с Золотым Сердцем, Спятивший Хулиган («Лучше всего в мире, мама!»), Неумелый, но Забавный Папуля, Мама на Все Руки, Ребенок из Канавы на Пути Вверх и десятки других. Очевидно, все эти стереотипы созданы с различной степенью мастерства, но даже в самых неудачных образчиках присутствует отражение архетипа, этакое культурное эхо.
Впрочем, здесь мы не рассматриваем ни Героя Войны, ни Сильного и Немногословного Блюстителя Порядка; мы обсуждаем другой чрезвычайно популярный архетип – Безымянную Тварь. Ибо если какой-нибудь роман и сумел пройти дистанцию книга – фильм – миф, так это «Франкенштейн». Он стал сюжетом для одного из первых «сюжетных» фильмов, когда-либо созданных, – короткометражной картины, в которой в роли чудовища снялся Чарльз Огл. Руководствуясь своим представлением о монстре, Огл рвал на себе волосы и, очевидно, вымазал лицо полузасохшим «Бисквиком»[54]. Продюсером фильма был Томас Эдисон. Сегодня тот же самый архетип выступает в телевизионном сериале Си-би-эс «Невероятный Халк» [The Incredible Hulk], который умудрился объединить два обсуждаемых здесь архетипа… причем успешно («Невероятного Халка» можно рассматривать как произведение об оборотне и о безымянной твари одновременно). Хотя каждое превращение Дэвида Беннера в Невероятного Халка заставляет меня гадать, куда девались его ботинки и как он их себе возвращает[55].
Итак, вначале было кино – но какая сила превращает «Франкенштейна» в фильм, и не один раз, а снова, снова и снова? Один из возможных ответов таков: сюжет, хотя и постоянно изменяемый (хочется сказать, извращаемый) кинематографистами, содержит удивительную дихотомию, которую вложила в него Мэри Шелли. С одной стороны, писатель ужасов есть агент нормы, желающий, чтобы мы искали и уничтожали мутантов, и мы чувствуем ужас и отвращение, испытываемое Франкенштейном по отношению к созданному им безжалостному, страшному существу. Но с другой стороны, мы понимаем, что чудовище не виновато, и разделяем страстное увлечение автора идеей tabula rasa.
Чудовище душит Анри Клерваля и обещает Франкенштейну «быть с ним в брачную ночь», но это же чудовище способно испытывать ребяческое удовольствие и удивление, глядя, как сверкающая луна поднимается над деревьями; оно, подобно доброму духу, приносит по ночам дрова крестьянской семье; оно хватает за руку слепого старика, падает на колени и умоляет: «Настало время! Спаси и защити меня!.. Не бросай меня в час испытаний!» Монстр, который задушил высокомерного Уильяма, в то же время вытащил маленькую девочку из воды… и был вознагражден зарядом дроби в зад.
Мэри Шелли – давайте стиснем зубы и скажем правду – не очень хорошо справлялась с эмоциональной прозой (именно поэтому студенты, что приступают к чтению книги в ожидании захватывающего кровавого сюжета – эти ожидания сформированы кинофильмами, – удивляются и разочаровываются). Лучше всего ей удались страницы, на которых Виктор и его создание, словно на дискуссии в Гарварде, обсуждают «за» и «против» просьбы монстра сотворить ему подругу; иными словами, она чувствует себя лучше всего в мире чистых идей. Так что есть определенная ирония в том, что свойство книги, обеспечивающее ей такую привлекательность для кино, заключается в способности Шелли пробудить в читателе двух человек: одного, который хочет закидать камнями чудовище, и другого, который на себе испытывает удары этих камней и чувствует всю несправедливость происходящего.
И все же ни один режиссер не воплотил обе эти идеи полностью; вероятно, ближе всего к этому подошел Джеймс Уэйл в своем стильном фильме «Невеста Франкенштейна», в котором экзистенциальные горести чудовища (юный Вертер с болтами в шее) сводятся к более земным, но эмоционально куда более сильным: Виктор Франкенштейн соглашается и создает женщину… но той не нравится монстр. Эльза Ланчестер, которая выглядит как королева диско поздних лет, орет дурным голосом, когда он пытается к ней прикоснуться, и мы вполне сочувствуем монстру, громящему проклятую лабораторию.
Грим для Бориса Карлоффа в оригинальной звуковой версии «Франкенштейна» создавал Джек Пирс; это он сотворил лицо, так же знакомое нам всем (хотя и менее благообразное), как лица дядюшек и двоюродных братьев в семейном фотоальбоме: квадратная голова, мертвенно-бледный, слегка вогнутый лоб, шрамы, винты, тяжелые веки. «Юниверсал пикчерз» скопировала грим Пирса, но когда английская студия «Хаммер филмз» в конце 50-х – начале 60-х годов снимала свою серию фильмов о Франкенштейне, была использована другая концепция. Возможно, получилось не столь вдохновенно, как оригинальный грим Пирса (в большинстве случаев Франкенштейн «Хаммера» очень похож на несчастного Гэри Конвея в «Я был подростком-Франкенштейном»), но у обоих вариантов есть нечто общее: хотя и в том и другом случае на чудовище страшно смотреть, в нем есть что-то такое печальное, такое жалкое, что наши сердца устремляются к нему, и в то же время мы отшатываемся в страхе и отвращении[56].
Как я уже отмечал, большинство режиссеров, обращавшихся к Франкенштейну (за исключением тех, кто снимал исключительно юмористические картины), осознавали эту дихотомию и пытались ее использовать. Найдется ли режиссер с душой настолько остывшей, что ему никогда не хотелось, чтобы монстр спрыгнул с горящей ветряной мельницы и затолкал факелы в глотки невежественных тупиц, которые из кожи вон лезут, чтобы его прикончить? Сомневаюсь. Если такой и существует, то это поистине жестокосердый человек. Но не думаю, чтобы хоть один режиссер сумел передать весь пафос ситуации, и нет такого фильма о Франкенштейне, который вызывал бы у зрителя слезы с той же легкостью, как заключительная сцена «Кинг-Конга», где гигантская обезьяна сидит на вершине Эмпайр-стейт-билдинг и отбивается от самолетов, словно от доисторических птиц родного острова. Подобно Иствуду в спагетти-вестерне Леоне, Конг – архетип архетипа. В глазах Бориса Карлоффа, а позже Кристофера Ли мы видим ужас от осознания собственной чудовищности; у Кинг-Конга, благодаря удивительным спецэффектам Уиллиса О’Брайена, он написан на морде гигантской обезьяны. В результате получается почти живописное полотно одинокого умирающего чужака. Это один из лучших образцов величайшего слияния любви и ужаса, невинности и страха – слияния, эмоциональную реальность которого лишь наметила, лишь предположила в своем романе Мэри Шелли. Я думаю, она бы поняла точнейшее замечание Дино де Лаурентиса о великой привлекательности подобной дихотомии и согласилась бы с ним. Де Лаурентис говорил о собственном незабываемом римейке «Кинг-Конга», но мог бы сказать то же самое и о несчастном монстре: «Никто не плачет, когда гибнут Челюсти». Что ж, мы действительно не плачем, когда умирает чудовище Франкенштейна – но аудитория рыдает, когда Конг, этот заложник из более примитивного и романтического мира, падает с Эмпайр-стейт, – и при этом, возможно, мы испытываем отвращение к самим себе за чувство облегчения.
4
Хотя разговор, который в конечном счете привел Мэри Шелли к решению написать «Франкенштейна», происходил на берегу Женевского озера, за много миль от британской земли, его все же следует признать одним из безумнейших английских чаепитий всех времен. И как ни забавно, это собрание несет ответственность не только за появление «Франкенштейна», опубликованного в том же году, но и за «Дракулу» – роман, написанный человеком, который родится только через тридцать один год.
Был июнь 1816 года, и группа путешественников – Мэри и Перси Шелли, лорд Байрон и доктор Джон Полидори – вынуждена была провести взаперти две недели из-за сильного ливня. Путники начали читать вслух немецкие готические рассказы о призраках из книги «Фантасмагория», и вынужденное заточение постепенно стало принимать определенно странный характер. Кульминация произошла, когда с Перси Шелли случилось что-то вроде приступа. Доктор Полидори записал в своем дневнике: «За чаем в 12 часов начались разговоры о привидениях. Лорд Байрон прочел несколько строк из «Кристабель» Кольриджа; когда наступила тишина, Шелли неожиданно закричал, сжал руками голову и со свечой в руке выбежал из комнаты. Я побрызгал ему в лицо водой и дал эфир. Оказалось, он смотрел на миссис Шелли и неожиданно подумал о женщине, у которой вместо сосков глаза; это привело его в ужас».
Пусть с этим разбираются англичане.
Итак, путешественники договорились, что каждый попытается написать новую историю о сверхъестественном. Именно у Мэри Шелли, чье произведение единственное выдержит испытание временем, были наибольшие трудности с его созданием. У нее вообще не было никаких замыслов, и прошло несколько ночей, прежде чем воображение нарисовало ей кошмар, в котором «бледный подмастерье святотатственных искусств создал ужасный призрак человека». Эта сцена сотворения представлена в четвертой и пятой главах ее романа (из которого выше приводились цитаты).
Перси Биши Шелли написал фрагмент, озаглавленный «Убийцы». Джордж Гордон Байрон – любопытную страшную историю «Погребение». Но именно Джона Полидори, доброго доктора, иногда упоминают как возможный мостик к Брэму Стокеру и «Дракуле». Его рассказ впоследствии был расширен до романа и пользовался большим успехом. А назывался он «Вампир».
На самом деле роман Полидори достаточно плох… и отличается подозрительным сходством с «Погребением», рассказом о призраках, написанным его несравненно более талантливым пациентом лордом Байроном. Возможно, здесь пахнет и плагиатом. Известно, что вскоре после короткой интерлюдии на берегах Женевского озера Байрон и Полидори жестоко повздорили, и дружба их закончилась. Можно предположить, что причиной разрыва послужило сходство между двумя произведениями. Полидори, которому в то время был двадцать один год, кончил плохо. Успех романа, в который он превратил свой рассказ, заставил его бросить врачебную практику и стать профессиональным писателем. Но его произведения успехом больше не пользовались; зато он преуспел в карточных долгах. Поняв, что его репутация безвозвратно загублена, он, как истый английский джентльмен того времени, пустил себе пулю в лоб.
Появившийся на стыке веков роман Стокера «Дракула» лишь отдаленно напоминает «Вампира» Полидори; тема узкая, и даже если исключить преднамеренные аллюзии, семейное сходство всегда будет присутствовать – но можно не сомневаться, что Стокер знал о Полидори. Прочитав «Дракулу», невольно думаешь, что Стокер перевернул все камни в этой области. Таким ли уж сомнительным покажется предположение, что он прочел книгу Полидори, заинтересовался темой и решил написать лучше? Я считаю, что так оно и произошло, точно так же, как мне нравится думать, что Полидори заимствовал основную идею у Байрона. В таком случае Байрон стал бы литературным дедом легендарного графа, который как-то похвастал Джонатану Харкеру, что прогнал турок из Трансильвании… а ведь Байрон погиб, сражаясь вместе с греками в восстании против турок, восемь лет спустя после встречи с Шелли и Полидори на берегу Женевского озера. Сам граф аплодировал бы такой смерти.
5
Все рассказы ужасов можно разделить на две группы: те, в которых ужас возникает в результате действия свободной и осознанной воли (сознательного решения творить зло), и те, в которых ужас предопределен и приходит извне, подобно удару молнии. Наиболее классический пример рассказа второго типа – история Иова, который становится кем-то вроде болельщика на космическом духовном суперкубке команд Бога и Сатаны.
Психологические истории ужасов – те, что исследуют территорию человеческого сердца – почти всегда вращаются вокруг концепции свободной воли, «врожденного зла»; одним словом, чего-то такого, ответственность за что мы вправе возложить на Бога-Отца. Таков Виктор Франкенштейн, который создает живое существо из отдельных частей, чтобы удовлетворить собственное высокомерие и гордость, а затем усугубляет свой грех, отказываясь взять на себя ответственность за содеянное. Таков доктор Джекил, создавший мистера Хайда исключительно из викторианского лицемерия – он хочет пьянствовать и развлекаться, но при этом ни одна самая грязная уайтчепелская проститутка не должна подозревать, что это благонравный доктор Джекил. Возможно, лучший из всех рассказов о внутреннем зле – это «Сердце-обличитель» Эдгара По, в котором убийство совершается из чистого зла и нет никаких смягчающих обстоятельств. По предполагает, что его героя назовут безумцем, потому что мы всегда считаем немотивированное зло безумием – ради собственного здравомыслия.
Литературу ужасов, имеющую дело с внешним злом, часто бывает трудно воспринимать серьезно; слишком уж она смахивает на замаскированные приключенческие романы для подростков, в конце которых отвратительные чужаки из космоса непременно бывают побеждены, или в самый последний момент Красивый Молодой Ученый находит решение… как в «Начале конца» [Beginning of the End], когда Питер Грейвз изобретает акустическое ружье и с его помощью загоняет всех гигантских кузнечиков в озеро Мичиган.
И все же концепция внешнего зла обширнее и страшнее. Лавкрафт это понял, и оттого его рассказы о грандиозном, циклопическом зле столь впечатляют – когда они хорошо написаны. Многие написаны неважно, но когда Лавкрафт в ударе, как в «Ужасе Данвича» [The Dunwich Horror], «Крысах в стенах» [The Rats in the Walls] и прежде всего – в «Цвет из иных миров» [The Colour Out of Space], его рассказы производят неизгладимое впечатление, а самые лучшие заставляют почувствовать бесконечность вселенной и существование тайных сил, которые способны уничтожить все человечество, стоит им просто хмыкнуть во сне. В конце концов, что такое мелкое внутреннее зло вроде атомной бомбы по сравнению с Ньярлахотепом, Ползучим Хаосом или Шаб-Ниггуратом, Козлом с Тысячью Младых?
«Дракула» Брэма Стокера представляется мне значительным произведением потому, что гуманизирует концепцию внешнего зла; Лавкрафт никогда не позволял нам уловить ее таким знакомым способом и ощутить ее текстуру. Это приключенческое произведение, но оно ни на миг не опускается до уровня Эдгара Райса Берроуза или «Варни-Вампира» [Varney the Vampire].
Этого эффекта Стокер достигает в основном благодаря тому, что почти на всем протяжении длинного романа держит зло вне повествования. В первых четырех главах граф почти всегда на сцене, он вступает в дуэль с Джонатаном Харкером, медленно теснит его к стене («Потом будут поцелуи вам всем», – слышит, теряя сознание, Харкер его слова, обращенные к трем странным сестрам)… а затем исчезает и больше не появляется на трех сотнях оставшихся страниц[57]. Этот один из наиболее замечательных и увлекательных приемов – обман зрения – в английской литературе редко кому удавался. Стокер создает своего страшного бессмертного монстра примерно так же, как ребенок – тень гигантского кролика на стене, шевеля пальцами перед огнем.
Зло, что несет граф, кажется полностью предопределенным; его приезд в Лондон, где «кишат миллионы», не есть результат злой воли смертного существа. Испытание Харкера в замке Дракулы – не следствие внутренней слабости или греха: он, Харкер, пришел сюда потому, что ему было это поручено. Смерть Люси Вестенра тоже отнюдь не закономерна. Ее встреча с Дракулой на кладбище Уитби – моральный эквивалент случайного удара молнии во время игры в гольф, и она ничем не заслужила того, чтобы Ван Хельсинг и ее жених Артур Холмвуд вбили ей в грудь осиновый кол, отрубили голову и наполнили рот чесноком.
Стокер не то чтобы игнорирует внутреннее зло или библейскую концепцию свободы воли; в «Дракуле» эта концепция воплощена в обаятельнейшем из всех маньяков мистере Ренфилде, который символизирует также истоки вампиризма – каннибализм. Ренфилд, который трудным путем пробирается в высшую лигу (начинает с мух, продолжает пауками и потом переходит к птицам), приглашает графа в сумасшедший дом доктора Сьюарда, прекрасно сознавая, что делает; но предположить, что это достаточно крупный образ, способный нести ответственность за все последующее зло, значит предположить нелепость. Образу Ренфилда, пусть и обаятельному, недостает силы, чтобы взвалить на него это бремя. Можно не сомневаться, что если бы Дракула не мог воспользоваться Ренфилдом, он нашел бы другой способ.
В определенном смысле решение о том, что зло приходит извне, диктовали Стокеру нравы его времени, потому что зло, воплощенное в графе, в большой степени есть извращенное сексуальное зло. Стокер дал жизнь легенде о вампире главным образом потому, что его роман буквально перенасыщен сексуальной энергией. Граф даже не нападает на Джонатана Харкера; на самом деле Харкер обещан странным сестрам, которые живут в замке вместе с хозяином. Единственное столкновение Харкера с этими развратными, но смертоносными гарпиями – сексуальное столкновение, и оно представлено в его дневнике весьма живописными строчками:
Блондинка придвинулась ко мне и так низко наклонилась, что я почувствовал ее дыхание на своей щеке… Лицо ее выражало сладострастие, которое меня и притягивало, и отталкивало. Женщина облизывала губы, как животное, чуя добычу. В лунном свете я увидел влажные полураскрытые губы и белые зубы… Она наклонялась все ниже и ниже, вот ее губы уже совсем близко от моих… Я ощутил легкое прикосновение, дрожащие мягкие губы прижались к коже на шее, и вот уже острые зубы впиваются мне в горло… С замирающим сердцем я ждал, что будет дальше[58].
В Англии 1897 года девушка, которая «придвинулась и низко наклонилась», – не из тех, кого стоит приглашать домой, чтобы познакомить с мамой; Харкеру предстоит оральное изнасилование, да он и не возражает. Не возражает, потому что не несет ответственности за происходящее. В обществе со строгой моралью можно найти клапан психологического спасения в концепции внешнего зла: это сильнее нас обоих, детка. Когда появляется граф и прерывает этот тет-а-тет, Харкер даже разочарован. Вероятно, большинство шокированных и затаивших дыхание читателей – тоже.
Кроме того, граф в романе охотится только на женщин: вначале Люси, затем Мина. Реакция Люси на укус графа почти такая же, как отношение Джонатана к странным сестрам. Еще вульгарнее то, что Стокер в чисто классической манере утверждает, будто Люси свихнулась. Днем бледная, но спокойная Люси, принимая ухаживания своего будущего мужа Артура Холмвуда, ведет себя в соответствии с приличиями. Однако по ночам она распутно забывается со своим мрачным кровавым соблазнителем.
В реальной жизни Англию в это время охватила эпидемия увлечения месмеризмом, хотя Франц Месмер, отец того, что мы называем гипнозом, уже восемьдесят лет как скончался. Подобно графу, последователи Месмера в основном предпочитали молоденьких девушек; эти Свенгали[59] XIX века вводили девушек в транс, поглаживая по телу… по всему телу. Объекты этих экспериментов испытывали «удивительное чувство, заканчивавшееся высшей вспышкой наслаждения». Очень вероятно, что эта «высшая вспышка наслаждения» была оргазмом, но лишь немногие незамужние женщины того времени узнали бы оргазм, случись он у них, и потому эффект считался просто побочным результатом научных опытов. Многие девушки возвращались и просили снова принять их для участия в экспериментах; «Мужчины не знают, но маленькие девочки понимают», – как поется в песне Бо Диддли[60]. Во всяком случае, то, что было сказано о вампиризме, вполне применимо и к месмеризму: высшая вспышка наслаждения допускалась, потому что приходила извне; девушка испытывала наслаждение, за которое не несла ответственности.
Этот сильный сексуальный подтекст, несомненно, послужил одной из причин столь долгой жизни Вампира в кино; жизнь эта началась с Макса Шрека в «Носферату» [Nosferatu], продолжилась интерпретацией Лугоши (1931), потом интерпретацией Кристофера Ли и далее вплоть до «Салемских вампиров» (1979), в котором Реджи Нелдер своей трактовкой замыкает круг, возвращаясь к Максу Шреку.
При прочих равных условиях этот подтекст дает возможность показать женщину, едва прикрытую ночной рубашкой, и парней, которые снова и снова проделывают со спящей леди то, что публику никогда не утомляет, а именно – примитивное насилие.
Но возможно, в сюжете сексуальный подтекст еще сильнее, только с первого взгляда этого не заметно. Я уже упоминал, что, по моему мнению, привлекательность произведений ужаса заключается в том, что они позволяют нам испытывать антиобщественные эмоции, которые в большинстве случаев нам приходится сдерживать – для блага общества и нас самих. Во всяком случае, «Дракула» – не книга о нормальном сексе. Граф Дракула, а также странные сестры, по-видимому, ниже пояса мертвы: любовью они занимаются только с помощью рта. Сексуальной основой «Дракулы» является инфантильный орализм плюс сильный интерес к некрофилии (и педофилии, добавят некоторые, учитывая роль Люси, женщины-девочки). К тому же это секс, лишенный ответственности, и, используя уникальный и забавный термин, придуманный Эрикой Йонг, его можно назвать «сексом без расстегивания ширинки». Столь инфантильное отношение к сексу может являться одной из причин того, что миф о вампире (который в книге Стокера говорит: «Я изнасилую тебя ртом, и тебе это понравится; вместо того чтобы вводить ценную жидкость в твое тело, я ее извлеку») всегда был так популярен у подростков, старающихся привыкнуть к своей сексуальности. Вампир словно нашел кратчайший путь сквозь все племенные сексуальные обычаи… и не забудьте про бессмертие.
6
В книге Стокера есть и другие любопытные элементы, очень разные, но, по-видимому, концепция внешнего зла и сексуальный подтекст – наиболее мощные стороны романа. Потомков странных сестер Стокера мы видим в удивительно роскошных и сладострастных вампирах из хаммеровской «Невесты Дракулы» [Brides of Dracula] 1960 года (которая заверяет нас, что, в самых лучших моралистических традициях фильмов ужасов, расплатой за извращенный секс служит кол в сердце), да и не только в ней, а еще в десятках фильмов до и после нее.
Задумав собственный роман о вампирах, «Жребий Салема», я решил практически исключить из него сексуальный аспект, чувствуя, что в обществе, где гомосексуализм, групповой секс, оральный секс и даже, боже упаси, «золотой дождь» стали предметом публичного обсуждения (не говоря уже о сексе с различными фруктами и овощами, если верить колонке «Форум» в «Пентхаусе»), сексуальный двигатель, придававший энергию книге Стокера, вероятно, останется без горючего.
До некоторой степени это соответствует действительности. Хэйзел Корт, с которой постоянно спадает платье (ну, почти спадает) в фильме АИП «Ворон» [The Raven] (1963), сегодня выглядит почти комично, не говоря уже о сентиментальном Валентино, подражающем Беле Лугоши в фильме «Дракула» студии «Юниверсал»; никакое нагнетание ужаса и никакие кинематографические трюки не спасают от желания рассмеяться посреди фильма. Но секс – и в этом практически не может быть сомнений – всегда останется движущей силой жанра ужасов: секс, который порой принимает замаскированные, фрейдистские формы, вроде вагинального создания Лавкрафта Великого Ктулху. Взглянув глазами автора на это скользкое, желеобразное существо со множеством щупалец, стоит ли удивляться, что Лавкрафт проявлял «слабый интерес» к сексу?
В жанре ужасов секс неизменно связан с проявлением силы; это секс, основанный на таких взаимоотношениях, когда один партнер находится во власти другого; секс, который почти неизбежно ведет к плохому финалу. Вспомним, например, «Чужого». Две женщины, входящие в состав экипажа, выглядят абсолютно асексуально вплоть до кульминации, когда Сигурни Уивер сражается с ужасным межзвездным «зайцем», который умудрился проникнуть даже в спасательную шлюпку. Во время этой последней схватки Уивер одета в трусики-бикини и тонкую кофточку, здесь она – воплощение женственности и вполне может поменяться местами с любой жертвой вампирских фильмов хаммеровского цикла 60-х годов. Нам словно бы говорят: «С ней все было в порядке, пока она не разделась»[61].
Вызвать ужас – все равно что парализовать противника в рукопашном бою: надо найти уязвимое место и ударить туда. В психологическом смысле наиболее очевидное уязвимое место – это сознание того, что человек смертен. Конечно, это известно всем без исключения. Но в обществе, которое такое внимание уделяет физической красоте (что несколько угрей становятся причиной сильнейшего психического расстройства) и сексуальной потенции, глубоко заложенная тревога и двойственность по отношению ко всему, что связано с сексом, становятся еще одной уязвимой точкой, ее-то и находит автор книги ужасов или сценарист фильма. В эпических произведениях Роберта Говарда жанра «меч и магия», где обязателен могучий герой с обнаженным торсом, злодейки-женщины все как одна до мозга костей испорчены, все как одна садистки и эксгибиционистки. Самый распространенный сюжет киноафиш: чудовище – то ли глазастый монстр из «Этот остров Земля» [This Island Earth], то ли мумия из хаммеровского римейка 1959 года фильма студии «Юниверсал», – которое шагает во тьме среди дымящихся руин какого-то города и несет на руках бесчувственную красавицу. Красавица и чудовище. Ты в моей власти. Хе-хе-хе. Снова сцена примитивного насилия. А примитивный, извращенный насильник и есть вампир, который похищает не только сексуальное наслаждение, но и жизнь. И, наверное, для миллионов подростков, которые наблюдают, как вампир взмывает в воздух и приземляется в спальне какой-нибудь спящей молодой женщины, самое лучшее заключается в том, что вампиру даже не требуется эрекция. Что может быть лучше для тех, кто стоит на пороге сексуальной жизни, тех, кого учили (в том числе и фильмы), что успешные сексуальные отношения основаны на господстве мужчины и подчинении женщины? А вот и джокер этой колоды: большинство четырнадцатилетних мальчишек, которые только что обнаружили свой сексуальный потенциал, способны господствовать разве что над разворотом «Плейбоя». Секс многое дает подросткам, но в первую очередь он их пугает. Фильм ужасов в целом и фильм о вампирах в частности еще больше укрепляет этот страх. Да, говорит он, секс страшен. Секс опасен. И я могу доказать это тебе прямо здесь и прямо сейчас. Садись, парень. Хватай свой попкорн. Я расскажу тебе одну историю…







