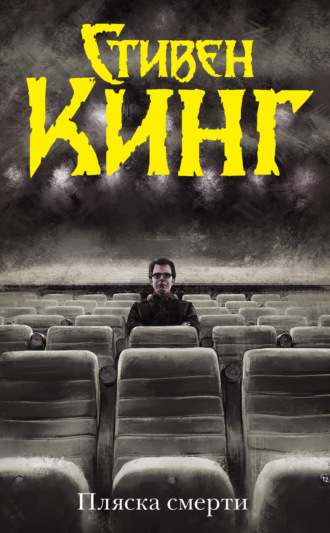
Стивен Кинг
Пляска смерти
В сущности, любое отклонение от интеллектуальной или физической нормы рассматривалось в истории – и рассматривается сейчас – как проявление чудовищности; полный список включал бы в себя вдовьи мыски (когда-то они считались доказательством колдовских способностей человека), родимые пятна на теле женщины (доказательство того, что она ведьма) и крайние проявления шизофрении, благодаря которым церковь время от времени канонизировала умственно нездоровых людей.
Прежде всего чудовищность привлекает консервативного республиканца в костюме-тройке, который сидит в каждом из нас. Концепция чудовищности нравится и нужна нам потому, что она подтверждает существование порядка, к которому мы, люди, стремимся ежеминутно… и позвольте предположить, что в ужас нас приводят не физические и умственные отклонения, а то отсутствие порядка, которое они символизируют.
Покойный Джон Уиндем, возможно, лучший английский писатель-фантаст, хорошо выразил эту мысль в своем романе «Куколки» [The Chrysalids], выпущенном в Америке под названием «Возрождение» [Rebirth]. На мой взгляд, в этой книге проблема мутации и отклонения от нормы рассматривается полнее и глубже, чем в любой другой книге на английском языке со времен Второй мировой войны. В гостиной дома молодого героя книги висят таблички-поучения: «ТОЛЬКО ОБРАЗ БОЖИЙ И ЕГО ПОДОБИЕ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК»; «НЕ ОСКВЕРНЯЙ НЕЧИСТОТАМИ РОД, УГОДНЫЙ БОГУ»; «В ОЧИЩЕНИИ НАШЕ СПАСЕНИЕ»; «НОРМА – ЖЕЛАНИЕ ГОСПОДА»; и самое красноречивое: «ИЩИ И НАЙДИ МУТАНТА!» В конечном счете, даже просто обсуждая чудовищность, мы выражаем свою веру в норму и страх перед мутантами. И тот, кто пишет романы ужасов, есть простой представитель этого статус-кво, не больше, но и не меньше.
5
Теперь, после всего сказанного, давайте вернемся к фильмам «Американ интернешнл пикчерз» 50-х годов. Чуть позже мы поговорим об аллегорических свойствах этих картин (эй вы, в заднем ряду, перестаньте смеяться или покиньте помещение), но пока давайте еще немного порассуждаем о чудовищности… и если коснемся аллегории, то лишь поверхностно, полагая, что в фильмах ее нет.
Хотя эти фильмы появились в то время, когда рок-н-ролл прорвал расовый барьер, хотя они обращены к тем же самым молодым людям, увлеченным современной музыкой, интересно отметить некую вещь, которая в них отсутствует совершенно… по крайней мере, если говорить в терминах «подлинной» чудовищности.
Мы уже отмечали, что фильмы АИП и других компаний, начавших ей подражать, дали киноиндустрии 50-х годов столь необходимый толчок. Они предложили миллионам молодых зрителей то, что те не могли увидеть дома по телевизору, а также место, куда можно пойти и сравнительно комфортабельно провести время. Именно эти «инди»[33], как назвал их журнал «Вэрайети», вызвали у всего поколения детей войны ненасытную жажду кино и, возможно, обеспечили успех таким несопоставимым друг с другом фильмам, как «Беспечный ездок» [Easy Rider], «Челюсти», «Рокки» [Rocky], «Крестный отец» [The Godfather] и «Изгоняющий дьявола».
Но где же чудовища?
О, поддельных чудовищ полно: пришельцы на летающих тарелках, гигантские пиявки, оборотни, люди-кроты (в фильме студии «Юниверсал») и десятки других. Но чего АИП не показала нам, испытывая эти многообещающие новые виды, так это нечто такое, что отдает настоящим ужасом… по крайней мере, в эмоциональном понимании детей войны. Это важное утверждение, и я надеюсь, вы согласитесь, что оно заслуживает курсива.
Они – то есть мы – знали психологический дискомфорт, появившийся с Бомбой, но никогда не знали физических лишений или голода. Дети, которые шли смотреть эти фильмы, были сытыми и ухоженными. У некоторых на войне погиб отец или дядька. Но таких было немного.
И в фильмах тоже не было толстых детей, не было детей с бородавками или страдающих нервным тиком; прыщавых детей; детей, ковыряющих в носу; детей с сексуальными проблемами; детей с заметными физическими недостатками (даже такими ничтожными, как плохое зрение, которое приходится исправлять с помощью очков, – у всех детей из фильмов ужасов и пляжных картин АИП стопроцентное зрение). Конечно, иногда на экране мог появиться эксцентричный подросток (таких, как правило, играл Ник Адамс), ребенок чуть ниже ростом или чуть более смелый, чем остальные, склонный к небольшим странностям, например, носить кепку козырьком назад, как бейсбольный кетчер (обычно у такого парня было прозвище Псих или Чокнутый), но дальше этого дело не заходило.
Почти во всех фильмах действие разворачивается в небольшом американском городе – с этой сценой аудитория знакома лучше всего… но города эти выглядят странно, будто здесь накануне съемок поработала специальная команда, удалив всех хромых, заик, толстопузых или веснушчатых, – короче, убрав всех, кто не похож на Фрэнки Авалона, Аннет Фуничелло, Роберта Янга или Джейн Уайатт. Конечно, Элиша Кук-младший, который играл в большинстве таких фильмов, выглядит странновато, но его обычно убивают в самом начале, так что, мне кажется, он не в счет.
Хотя и рок-н-ролл, и молодежные фильмы (от «Я был подростком-оборотнем» [I Was a Teenage Werewolf] до «Бунтаря без причины» [Rebel Without a Cause]) потрепали нервы старшему поколению, которое едва успело начать расслабляться настолько, чтобы превратить «их войну» в миф – неприятный сюрприз, словно выскакивающий из-за живой изгороди крокодил, – и музыка, и кино были лишь предвестием того юнотрясения, которое произойдет позже. Смущал Литтл Ричард, смущал и Майкл Лэндон, который даже не снимал форменный школьный пиджак, превращаясь в волка, но оставались еще годы и мили до Рыбьего веселья в «Вудстоке» [Woodstock] или до Дубленого Старика, проделывающего импровизированную хирургическую операцию в «Техасской резне бензопилой» [The Texas Chainsaw Massacre].
Это было десятилетие, когда каждый родитель трепетал перед призраком подростковой преступности: мифическим хулиганом-подростком, стоящим в дверях кондитерской Нашего Городка; волосы его смазаны бриолином, под эполет мотоциклетной куртки заткнута пачка «Лаки», сигарета в углу рта, в заднем кармане – новенький нож с выкидным лезвием, и он ждет ребенка. Ребенка, которого можно избить, или его родителя, чтобы запугивать и оскорблять, или девушку, чтобы изнасиловать, а может, собаку, чтобы прикончить – или съесть. Этот пугающий образ, некогда созданный Джеймсом Дином и/или Виком Морроу, внушал ужас любому – и вдруг появляется Артур Фонзарелли[34]. Впрочем, в те времена популярные газеты и журналы видели молодежную преступность повсюду, точно так же как за несколько лет до того им повсюду мерещились коммунисты. Сапоги с цепочками и потрепанные джинсы можно было увидеть или вообразить на улицах Оукдейла, Пайнвью и Сетервиля; в Мандамиане, Айова, и в Льюистоне, Мэн. Далеко протянулась тень этой страшной подростковой преступности. Марлон Брандо первым дал пустоголовому нигилисту дар речи – в картине под названием «Дикарь» [The Wild One]. «Против чего ты восстаешь?» – спрашивает у него хорошенькая девушка. «А что у тебя есть?» – отвечает Марлон.
Для какого-нибудь парня в городке Эшер-Хейтс, Айова, который чудом остался жив, совершив на своем бомбардировщике сорок один вылет над Германией, а теперь хочет лишь продать побольше «бьюиков» с новой трансмиссией, это очень плохая новость; этого парня молодежь нисколько не привлекает.
Но коммунистов и шпионов оказалось гораздо меньше, чем предполагалось; точно так же опасность молодежной преступности была сильно преувеличена. В конечном счете дети войны хотели того же, что и их родители. Им нужны были водительские права; работа в городе и дом в пригороде; жены и мужья; страховка; сознание безопасности; дети; платежи в рассрочку, которые они в состоянии выплатить; чистые рубашки; чистая совесть. Они хотели быть хорошими. Годы и мили между «Гли-клаб»[35] и Симбионистской армией освобождения[36]; годы и мили между Нашим Городом и дельтой Меконга; а единственным фуззом, который они знали, была техническая ошибка в кантри Марти Роббинса. Школьная форма была им не в тягость. Длинные бакенбарды вызывали у них насмешку, а парня на каблуках или в шортах безжалостно преследовали как педераста. Эдди Кокран мог петь об «умопомрачительных закатанных розовых брюках», и подростки раскупали его записи… но не сами брюки. Для детей войны норма была благословением. Они хотели быть хорошими. И они искали мутантов.
В ранних фильмах ужасов 50-х годов, ориентированных на молодежь, допускалось только одно отклонение на картину, только одна мутация. Родители в нее не верили. Именно дети – жаждущие быть хорошими – стояли на страже (чаще всего на одиноком холме, нависающем над Нашим Городом за аллейками влюбленных); именно дети искали, находили и уничтожали мутанта, снова делая мир безопасным и пригодным для сельского клуба танцев и для блендеров «Хамильтон-Бич».
В 50-е годы для детей войны ужас по большей части – за исключением психического напряжения от ожидания Бомбы – был вполне мирским ужасом. Возможно, концепция подлинного ужаса недоступна людям с набитым желудком. Ужас, доступный детям войны, был небольшого масштаба, и в этом свете фильмы, которые принесли АИП подлинный успех – «Я был подростком-оборотнем» и «Я был подростком-Франкенштейном» [I Was a Teenage Frankenstein], – заслуживают особого внимания.
В «Оборотне» Майкл Лэндон играет привлекательного, но замкнутого школьника со вспыльчивым характером. В целом он хороший парень, только любит подраться (как Дэвид Беннер, альтер-эго Халка в телевизионном сериале, герой Лэндона никогда не начинает первым), и в конце концов дело доходит до того, что его могут исключить из школы. Он отправляется к психоаналитику (Уит Бисселл, который играл безумного потомка Виктора Франкенштейна в «Подростке-Франкенштейне»), но тот оказывается воплощением зла. Считая психику Лэндона рудиментом ранних стадий развития человека, Бисселл с помощью гипноза добивается полного регресса, сознательно ухудшая положение, вместо того чтобы помочь мальчишке.
Эксперимент Бисселла удается и превосходит все его ожидания – или худшие кошмары: Лэндон превращается в свирепого оборотня. Для школьников 1957 года, впервые наблюдающих такое превращение, это было великое зрелище. Лэндон стал воплощением всего того, что нельзя делать, если хочешь быть хорошим… если хочешь окончить школу, вступить в Национальное общество почета, получить рекомендации и учиться в хорошем колледже, где можно иногда подраться и выпить, как делал в свое время твой старик. У Лэндона лицо покрывается шерстью, вырастают длинные клыки, из пасти течет жидкость, подозрительно похожая на крем для бритья. Он набрасывается на девушку, которая одна в гимнастическом зале упражняется на бревне, и можно представить, что от него несет, как от бродячего хорька, вывалявшегося в свежем помете койота. На нем нет застегнутой на все пуговицы рубашки Лиги плюща[37]; этот парень ни в грош не ставит отборочные тесты средней школы. Это полное дерьмо, только не собачье, а волчье.
Несомненно, невероятный успех фильма отчасти объяснялся освобождающим, искупительным ощущением, которое испытывали дети войны, желавшие быть хорошими. Когда Лэндон нападает на хорошенькую гимнастку в спортивном трико, он как бы делает заявление от лица всех зрителей. Но одновременно этих зрителей охватывает ужас, потому что на психологическом уровне картина есть цикл наглядных уроков поведения – от «брейся перед уходом в школу» до «никогда не тренируйся одна в пустом зале».
Одним словом, чудовища есть повсюду.
6
Если «Я был подростком-оборотнем» психологически представляет собой известный кошмар, в котором у вас падают брюки, когда вы отдаете честь флагу – только доведенный до крайности и принявший вид косматого чужака, угрожающего вашим сверстникам в Школе Нашего Города, – то «Я был подростком-Франкенштейном» – болезненная притча о свихнувшихся железах. Это фильм для всякого пятнадцатилетнего подростка, который утром стоял у зеркала и нервно разглядывал свежий прыщ, выскочивший за ночь, мрачно осознавая, что даже патентованные медицинские диски не разрешат эту проблему, что бы там ни говорил Дик Кларк[38].
Вы можете упрекнуть меня в излишнем внимании к угрям. Вы правы. Во многих отношениях произведения ужасов 50-х и начала 60-х годов – скажем, до появления «Психо» [Psycho] – это торжественные гимны засоренным порам. Я уже говорил, что сытый человек не может испытать подлинный ужас. Так и американцам пришлось строго ограничить свою концепцию физического уродства – вот почему угри играют такую важную роль в психическом развитии американского подростка.
Конечно, где-то есть парень с врожденным дефектом, который бормочет себе под нос: только мне не говори об уродстве, осел… и, безусловно, существуют косолапые американцы, американцы безносые, безрукие и безногие, слепые американцы (мне всегда было любопытно, чувствуют ли слепые американцы себя дискриминированными, слыша рекламную песенку «Макдоналдс»: «Не отрывай глаз от картофеля фри…»). Рядом со столь катастрофическими неудачами Бога, человека и природы несколько угрей кажутся таким же серьезным несчастьем, как заусеница. Но необходимо напомнить, что в Америке серьезные физические недостатки (по крайней мере, пока) являются скорее исключением, чем правилом. Пройдите по любой среднестатистической американской улице и подсчитайте, сколько вам встретится серьезных физических дефектов. Если пройдете три мили и насчитаете больше пяти, намного превзойдете средний показатель. Если станете искать сорокалетних со сгнившими до десен зубами, детей с распухшими от голода животами, людей со следами оспы на лице – ваши поиски будут обречены на провал. Болезни, уродующие человека, чаще встречаются в деревнях и бедных городских кварталах, но в большинстве городов и пригородов Америки люди выглядят здоровыми. Обилие курсов первой помощи, поголовное увлечение культом развития личности («Я буду более уверенной в себе, если не возражаете», – как говорит Эрма Бомбек[39]) и распространяющийся со скоростью степного пожара обычай созерцать собственный пупок – все это доказательства того, что американцы в большинстве своем позаботились о низменных сторонах жизни, которая для значительной части остального мира есть борьба за выживание.
Не могу представить себе, чтобы человек, страдающий от недоедания, разделял лозунг «У меня все хорошо – у вас все хорошо»[40] или чтобы кто-нибудь, с трудом добывающий средства для существования себя самого, жены и восьмерых детей, много думал об оздоровительном тренинге Вернера Эрхарда или о рольфинге[41]. Это все для богатых. Недавно Джоан Дидион[42] написала книгу о своем собственном пути в 60-е годы – «Белый альбом» [The White Album]. Наверное, для богатых эта книга весьма интересна: история обеспеченной белой женщины, которая может себе позволить лечить нервный срыв на Гавайях; в 70-е годы нервный срыв – эквивалент угрей 60-х.
Когда горизонт человеческого опыта сужается до размеров квартиры, меняется перспектива. Для детей войны, живущих в безопасном (если не считать Бомбы) мире регулярных (два раза в год) медицинских осмотров, пенициллина и всеобщей заботы о зубах, угри стали единственным физическим дефектом, который можно увидеть на улице или в школьном коридоре: об остальных дефектах уже позаботились. Кстати, раз уж я упомянул заботу о зубах, добавлю, что дети, которые под почти удушающим давлением родителей носят зубные скобки, считают их чем-то вроде физического дефекта, и время от времени в школе можно услышать оклик: «Эй ты, железная пасть!» Но все же в глазах большинства эти скобки – просто средство лечения, не более бросающееся в глаза, чем повязка на поврежденной руке или наколенник у игрока в американский футбол.
А вот от угрей лекарства не существует.
Но вернемся к «Подростку-Франкенштейну». В этом фильме Уит Бисселл собирает из частей трупов погибших гонщиков существо, которое играет Гэри Конвей. Лишние части скармливаются крокодилам, живущим под домом, – конечно, у зрителя довольно рано возникает предчувствие, что самого Бисселла тоже в конце концов сжуют аллигаторы, и оно его не подводит. В фильме Бисселл является воплощением зла, его злодейство достигает экзистенциальных масштабов: «Он плачет, даже слезные железы действуют!.. Отвечай, ведь у тебя во рту вежливый язык. Я знаю, потому что сам его пришил»[43]. Но именно несчастный Конвей представляет собой главную изюминку фильма. Как и злодейство Бисселла, физическое уродство Конвея столь велико, что становится почти нелепым… и он очень похож на старшеклассника, у которого угри по всей физиономии. Лицо его представляет собой бесформенный макет горной местности, из которой безумно торчит один подбитый глаз.
И все-таки… все-таки… каким-то образом это спотыкающееся существо способно танцевать рок-н-ролл, а значит, оно не может быть таким уж плохим, верно? Мы встретились с чудовищем, и, как говорит Питер Страуб в своей «Истории с привидениями», оказалось, что оно – это мы сами.
Ниже мы еще вернемся к чудовищности, и, надеюсь, это будут более глубокие умозаключения, чем те, что можно добыть из руды «Подростка-оборотня» и «Подростка-Франкенштейна», но сейчас для меня было важно показать, что даже на простейшем уровне истории о Крюке способны добиться многого, причем неосознанно. В них присутствует аллегория, и они позволяют пережить катарсис, но лишь потому, что создатель этих произведений – прежде всего агент нормы. Это справедливо в отношении физического ужаса, но кроме того, как мы еще убедимся, справедливо и в отношении произведений более художественного характера, хотя, обратившись к мистическим свойствам ужаса и страха, мы, разумеется, найдем куда более тревожные и поразительные ассоциации. Но чтобы достичь этой точки, мы должны, по крайней мере на время, отложить фильмы и перейти к обсуждению трех романов, которые составляют основу большинства современных произведений жанра ужасов.
Глава третья
Истории Таро
1
Одна из самых распространенных тем в фантастике – бессмертие. «Бессмертное существо» – основной герой произведений, от «Беовульфа» до рассказов По о Вальдемаре и искусственном сердце и далее до книг Лавкрафта (таких, например, как «Прохладный воздух» [Cool Air]), Блэтти и даже, спаси нас Господь, Джона Соула[44].
Три романа, о которых пойдет речь в этой главе, по-видимому, действительно постигли бессмертие, и без них невозможно достаточно полно и глубоко проанализировать произведения ужасов 1950–1980 годов. Все три как бы выходят за круг признанной английской «классики», и, возможно, не без причины. «История доктора Джекила и мистера Хайда» была написана в лихорадочной спешке за три дня. Повесть привела жену Стивенсона в такой ужас, что тот бросил рукопись в камин… а потом написал снова, и опять за три дня. «Дракула» – откровенная мелодрама, втиснутая в рамки эпистолярного романа, – форма, испускавшая предсмертные вздохи еще за двадцать лет до того, как Уилки Коллинз сочинял свои последние, полные тайн и напряжения романы. «Франкенштейн», самый известный из трех, написан девятнадцатилетней девушкой, и хотя в художественном смысле он сильнее остальных двух, читают его меньше, да и автору уже никогда потом не удавалось писать так быстро, так хорошо, так успешно… и так дерзко.
С точки зрения нелюбезного критика все три романа выглядят как обычные популярные книжки своего времени, мало чем отличающиеся от других – например, «Монаха» М. Г. Льюиса или «Армадейла» Коллинза, книг, забытых всеми, кроме исследователей готического романа. Время от времени они рекомендуют их своим студентам; те берутся за них с большой осторожностью… а затем проглатывают залпом.
И все же эти три романа – нечто особенное. Они образуют фундамент того небоскреба книг и фильмов, готики двадцатого столетия, которая известна как «современный жанр ужасов». Больше того, в центре каждого из них находится (или таится) чудовище, принадлежащее к той структуре, которую Берт Хетлен[45] назвал «бассейном мифов»; в этот бассейн художественной литературы погружены мы все, даже те, кто не читает книг и не ходит в кино. Словно в колоде карт Таро, там есть яркие представители зла, его символы: Вампир, Оборотень и Безымянная Тварь.
Один из величайших романов о сверхъестественном, а именно «Поворот винта» [The Turn of the Screw] Генри Джеймса, исключен из колоды Таро, хотя он сделал бы этот ряд полным, добавив в него наиболее известную сверхъестественную фигуру – Призрака. Я исключил этот роман по двум причинам: во-первых, потому, что «Поворот винта», несмотря на элегантную стилистику и выверенный психологизм, оказал очень слабое влияние на мейнстрим американской массовой культуры. В качестве архетипа скорее можно было бы взять Каспера, дружелюбное привидение. Во-вторых, Призрак – архетип, чья область бытования (в отличие от чудовища Франкенштейна, графа Дракулы и Эдварда Хайда) слишком обширна, чтобы быть представленной одним-единственным романом, каким бы великим этот роман ни был. Архетип Призрака – в конечном счете океан литературы о сверхъестественном, и хотя в свое время мы заведем о нем разговор, эта беседа не будет ограничиваться одной книгой.
Все эти книги (включая «Поворот винта») объединяет одно: каждая из них имеет дело с самыми глубинными основами ужаса, с тайнами, которые лучше не раскрывать, и словами, которых лучше не произносить. И все же Стивенсон, Шелли и Стокер (а также Джеймс) обещают нам раскрыть эти тайны. Они достигают этого с разной степенью воздействия и успеха… но ни о ком нельзя сказать, что он потерпел неудачу. Может быть, оттого эти романы и кажутся полными жизни. Во всяком случае, они существуют, и, по-моему, нельзя написать такую книгу, как эта, не обратившись к ним. Это корни. Вы можете знать, а можете и не знать, что ваш дед любил вечером после ужина посидеть на веранде и выкурить трубку, но знать, что он эмигрировал из Польши в 1888 году, приехал в Нью-Йорк и участвовал в строительстве подземки, вы просто обязаны. Кроме всего прочего, вы с другим чувством будете заходить в метро. Точно так же трудно понять Кристофера Ли в образе Дракулы, не зная, что написал о Дракуле рыжеволосый ирландец Абрахам Стокер.
Итак… немного о корнях.
2
Даже по Библии не снято столько фильмов, сколько снято по «Франкенштейну». Для примера можно назвать хотя бы «Франкенштейн» [Frankenstein], «Невеста Франкенштейна» [The Bride of Frankenstein], «Франкенштейн встречает Человека-волка» [Frankenstein Meets the Wolf-Man], «Месть Франкенштейна» [The Revenge of Frankenstein], «Блэкенштейн» [Blackenstein] и «Франкенштейн 1970» [Frankenstein 1970]. В свете этого пересказывать сюжет представляется излишним, но, как я уже говорил, «Франкенштейн» сейчас читают нечасто. Миллионам американцев известно это имя (хотя, конечно, не так хорошо, как имя Рональда Макдоналда; вот уж поистине культовая фигура), но большинству даже невдомек, что Франкенштейн – это имя создателя чудовища, а не самого чудовища; и этот факт служит еще одним доказательством, что книга стала частью американского бассейна мифов. Это все равно что сказать, будто Билли Кид (знаменитый главарь банды из Калифорнии, о котором созданы десятки вестернов) на самом деле был неженкой из Нью-Йорка, носил котелок, болел сифилисом и, вероятно, большинство своих жертв убил выстрелом в спину. Людей интересуют такие факты, но они инстинктивно чувствуют, что сейчас это не важно – если вообще было когда-то важно. Есть одна особенность, делающая искусство силой, с которой приходится считаться даже тем, кто об искусстве не думает, – это та систематичность, с какой миф поглощает правду… и при этом не страдает ни отрыжкой, ни несварением желудка.
Роман Мэри Шелли – это медлительная, многословная мелодрама; тема проложена крупными, продуманными, но грубыми мазками. Повествование разворачивается так, как приводил бы свои аргументы в споре умный, но наивный студент. В отличие от основанных на нем фильмов, в романе почти нет сцен насилия, и, в отличие от бессловесного чудовища времен «Юниверсал» («Карлофф-фильмы», как очаровательно называет их Форри Экерман), существо Шелли изъясняется высокопарными и правильными фразами пэра в палате лордов или Уильяма Ф. Бакли, вежливо спорящего с Диком Кэвиттом[46] в телевизионном ток-шоу. Это разумное существо, в отличие от подавляющего даже физически чудовища Карлоффа, со скошенным лбом и маленькими, глубоко посаженными глуповато-хитрыми глазками; и во всей книге нет ничего столь же страшного, как слова, которые Карлофф произносит тусклым, безжизненным, медлительным тенором в «Невесте Франкенштейна»: «Да… мертвая… я люблю… мертвых».
Роман Мэри Шелли имеет подзаголовок «Современный Прометей», и Прометеем тут является Виктор Франкенштейн. Он оставил родной дом ради университета в Ингольштадте (мы уже слышим скрип оселка – Мэри Шелли точит один из излюбленных топоров этого жанра: Есть Вещи, Которых Людям Знать Не Следует), где и помешался – весьма опасно – на идеях гальванизма и алхимии. Неизбежным результатом, естественно, становится создание чудовища; для этой цели используется больше частей, чем можно насчитать в автомобильном каталоге Уитни. Франкенштейн создает своего монстра в едином порыве лихорадочной деятельности, и в этой сцене проза Шелли достигает наибольших высот.
О вскрытии могил, необходимом для достижения цели:
Как рассказать об ужасах этих ночных бдений, когда я рылся в могильной плесени или терзал живых тварей ради оживления мертвой материи? Сейчас при воспоминании об этом я дрожу всем телом… Я собирал кости в склепах; я кощунственной рукой вторгался в сокровеннейшие уголки человеческого тела… иные подробности этой работы внушали мне такой ужас, что глаза мои едва не вылезали из орбит[47].
О сне, который приснился создателю после завершения эксперимента:
Я увидел во сне кошмар: прекрасная и цветущая Элизабет шла по улице Ингольштадта. Я в восхищении обнял ее, но едва успел запечатлеть поцелуй на ее устах, как они помертвели, черты ее изменились, и вот я держу в объятиях труп моей матери; тело ее окутано саваном, и в его складках копошатся могильные черви. Я в ужасе проснулся; на лбу у меня выступил холодный пот, зубы стучали, а все тело свела судорога; и тут в мутном желтом свете луны, пробивавшемся сквозь ставни, я увидел гнусного урода, сотворенного мной. Он приподнял полог кровати; глаза его, если можно назвать их глазами, были устремлены на меня. Челюсти его двигались, и он издавал непонятные звуки, растягивая рот в улыбку.
На этот кошмар Виктор реагирует как любой нормальный человек: с криком убегает в ночь. С этой минуты повествование превращается в шекспировскую трагедию, и ее классическая цельность нарушается лишь сомнением миссис Шелли, в чем же роковая ошибка: в дерзости Виктора (возомнившего себя Творцом) или в его отказе принять на себя ответственность за свое создание, после того как вдохнул в него искру жизни?
Чудовище начинает мстить своему создателю и убивает его младшего брата Уильяма. Кстати, читателю не слишком жалко Уильяма: когда чудовище пытается с ним подружиться, мальчик отвечает: «Отвратительное чудовище! Пусти меня! Мой папа – судья! Его зовут Франкенштейн. Он тебя накажет. Ты не смеешь меня держать». Эта обычная реакция ребенка из богатой семьи, и именно она оказывается для него роковой: услышав из уст мальчика имя своего создателя, чудовище ломает ему хрупкую шею.
В убийстве обвиняют ни в чем не повинную служанку Франкенштейнов Жюстину Мориц и приговаривают ее к повешению – и бремя вины несчастного Франкенштейна удваивается. Не выдержав, чудовище приходит к своему создателю и рассказывает свою историю[48]. В заключение оно говорит, что хочет подругу. Оно обещает Франкенштейну, что если его желание будет исполнено, оно заберет свою женщину и они вдвоем будут жить в какой-нибудь далекой пустыне (предполагается Южная Америка, поскольку Нью-Джерси в те времена еще не изобрели), вдали от людей. А в качестве альтернативы чудовище грозит царством ужаса. Оно подтверждает вечную истину «лучше творить зло, чем ничего не делать», говоря: «Я отомщу за свои обиды. Раз мне не дано вселять любовь, я буду вызывать страх; и прежде всего на тебя – моего заклятого врага, моего создателя, я клянусь обрушить неугасимую ненависть. Берегись: я сделаю все, чтобы тебя уничтожить, и не успокоюсь, пока не опустошу твое сердце и ты не проклянешь час своего рождения».
Наконец Виктор соглашается и действительно создает женщину. Акт своего второго творения он совершает на одном из пустынных Оркнейских островов, и на этих страницах Мэри Шелли вновь добивается первоначальной интенсивности настроения и атмосферы. За мгновение до того как наделить существо жизнью, Франкенштейн начинает сомневаться. Он представляет себе, как эта парочка опустошает мир. Хуже того, они видятся ему Адамом и Евой отвратительной расы чудовищ. Дитя своего времени, Мэри Шелли и не подумала, что человек, способный вдохнуть жизнь в разлагающиеся части трупов, сочтет детской забавой создать бесплодную женщину.
Разумеется, после того как Франкенштейн уничтожает подругу созданного им монстра, тот немедленно появляется; у него подготовлено для Виктора Франкенштейна несколько слов, и ни одно из них не звучит как пожелание счастья. Обещанное им царство ужаса разворачивается, как цепь взрывающихся хлопушек (хотя в размеренной прозе миссис Шелли это больше напоминает разрывы капсюлей). Для начала чудовище душит Анри Клерваля, друга детства Франкенштейна. Вслед за этим оно делает самый ужасный намек: «Я буду с тобой в твою брачную ночь». Для современников Мэри Шелли, как и для наших с вами современников, в этой фразе содержится нечто большее, чем просто клятва убить.
В ответ на угрозу Франкенштейн почти сразу женится на своей Элизабет, которую любит с самого детства, – не самый правдоподобный момент книги, но все равно с чемоданом в канаве или беглой благородной арабкой его не сравнить. В брачную ночь Виктор выходит навстречу монстру, наивно полагая, что тот угрожал смертью ему. Не тут-то было: чудовище тем временем врывается в маленький домик, который Виктор и Элизабет сняли на ночь. Элизабет гибнет. За ней умирает отец Франкенштейна – от сердечного приступа.
Франкенштейн безжалостно преследует свое создание в арктических водах, но сам умирает на борту идущего к полюсу корабля Роберта Уолтона, очередного ученого, решившего разгадать загадки Бога и природы… и круг аккуратненько замыкается.







