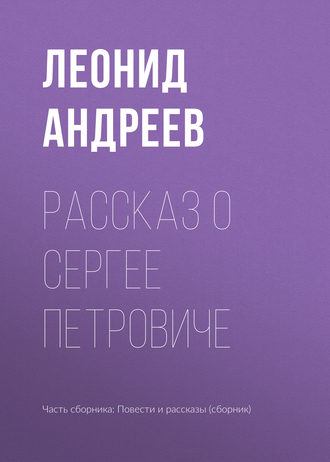
Леонид Андреев
Рассказ о Сергее Петровиче
Правда ли?
Глубокий свистящий воздух, шедший из глубины запыленных легких, поднимал грудь Сергея Петровича и сгонял с его плоского лица стыдливо-восхищенную улыбку. И еще более, чем бродягам, завидовал он тем, кто владеет морем и горами.
Однажды, блуждая по городу и различая в толпе тех, кто свободен и властен и кто навсегда лишен свободы, Сергей Петрович увидел вывеску стереоскопической панорамы и зашел туда. Показывались горы, озера и замки Людвига Баварского. Цветные фотографии проходили перед глазами и были так живы и выпуклы, что чувствовался воздух и синяя даль, а вода блестела, как настоящая, и в ней отражались леса и замки. Белый, празднично-светлый и чистый пароход вздымал носом пенистые борозды, а на палубе стояли и сидели празднично одетые мужчины, женщины и дети, и, казалось, можно было различить радостную улыбку на их лицах. Потом он видел замок, который белел своими башнями и зубчатыми террасами над зеленью лесов, каскадами спадавших в долину, и видел внутренность замка. Величественные залы, бесчисленное множество картин, царственное великолепие бархата и тяжелой парчи, свет, льющийся в высокие готические окна и скользящий по паркетам полов. И на одном окне, спиной к Сергею Петровичу, сидел кто-то, равнодушный и спокойный, и смотрел вниз, туда, где виднелись одни вершины гор и светлое небо. Сергей Петрович долго всматривался в неподвижную фигуру сидящего и как будто видел все, что видел тот: леса, долины и синюю сталь озер, и чувствовал, какой должен быть чистый и свежий воздух, которым дышит тот. И ему казалось, что среди величавых зал, уходящих, как небо, потолков, с окнами, из которых видно полмира, не может быть тоски и печальных размышлений. И самое главное и наиболее удивительное видел он: он видел человека, смешно подвернувшего под себя ногу и выставившего подошву сапога так же, как Сергей Петрович подвернул бы ее под себя на его месте, и человек этот дышал горным воздухом и мог ходить по величавым залам. С внезапным порывом гневной тоски Сергей Петрович скрипнул зубами и сунулся вперед, точно желая сбросить в пропасть неподвижно сидящего человека, и больно стукнулся бровями и носом о рамки стекол. И ему стало стыдно при мысли, что гнев его напускной и рассчитанный именно на существование рамок, а что, если бы человека этого он видел в действительности, он не осмелился бы коснуться его пальцем. Робкий и смиренный, содрогавшийся от вида зарезанной курицы, не был способен он и на гнев.
Когда Сергей Петрович вышел из помещения панорамы на кривой и горбатый московский переулок, с которого дворники счищали снег, а извозчики месили его полозьями, он подумал, что нет таких фактов, с которыми должен мириться человек.
За природою следовала музыка, искусство во всех его видах, какие доступны были пониманию Сергея Петровича и могли наполнить его жизнь и сделать ее интересною и разнообразною. За ними шла женская любовь, которой жаждало его сердце. В концертах, в театрах и на улице он видел породисто-красивых женщин, полных изящества и благородства, и хотел их любви. Одну из них он запомнил, встречая ее несколько раз, и мечтал о ней, а она ни разу не подняла на него своих глаз и не знала об его существовании. Ему было противно воспоминание о любви девушки, которая полола гряды и от которой пахло навозом и потом, и противна мысль о других таких же грубых женщинах, которые будут любить его и говорить с ним о рублях и ненавистном труде. Ему до боли хотелось любви этой женщины, имени которой он не знал и которая не понимает всего того, что мучит его и ему подобных. И как человек, никогда не имевший денег, он думал, что они могут дать ему любовь, и как человек, не знавший женской любви, думал, что она может дать ему счастье.
В это именно время Сергей Петрович поехал к женщинам, где встретили его товарищи, и намеренно не стал пить, чтобы яснее сознать то, что приходится в этом мире на долю его и ему подобных.
Чем больше вглядывался Сергей Петрович в жизнь, тем бессильнее и ничтожнее становилась в его глазах природа, безумно рассыпающая свои дары. И на место униженной природы перед его тусклыми глазами стала другая грозная и могучая сила – деньги. Ослепленный, потерявшийся, он стал думать, что они властвуют и над природой. И слабый мозг его поддался обману, и в сердце зажглась надежда. Он вынимал из кармана серебряный рубль и вертел его в руках с чувством странного любопытства и недоумения, точно впервые видел этот блестящий кружок. Они не с неба валятся, эти кружки, и он приобрел его и может еще приобресть много, и тогда в его руках будет могучая сила, властвующая над природой. И, как всякий человек, у которого мелькнула надежда, он стал думать не о возможности ее осуществления, а о том, что будет делать он, когда надежда осуществится. И эти несколько дней были отдыхом для Сергея Петровича, и он поднялся вверх, чтобы сильнее потом расшибиться о землю и уже не встать. Он взял данным то, что у него уже есть миллион, и мечтал о море, о горах и о женщине, имени которой он не знал и которая не подозревала об его существовании.
Но невозможно было остановить мысль, когда она начала работать и когда ее гнал такой жгучий кнут, как видение сверхчеловека, того, кто полноправно владеет силою, счастьем и свободою. И, когда оно мелькнуло перед утомленными глазами Сергея Петровича, он удивился, что, как и прежде, он отдается неосуществимым и детским мечтам. Было много путей к деньгам, но перед каждым стояла рогатка и не пускала Сергея Петровича. Он не мог украсть, как не мог и убить, так как не мозг, а чужая, неведомая воля управляла его поступками. Тот труд, который был доступен ему, не мог дать богатства, а все другое – игра на бирже, фабрика, служба с крупными окладами, искусство, женитьба на богатой, все то, что дозволяется законом и совестью и дает состояние в один день или в год, – так же не существовало для него, как и ум. И когда Сергей Петрович понял, что деньги не исправляют несправедливостей природы, а углубляют их и что люди всегда добивают того, кто уже ранен природой, – отчаяние погасило надежду, и мрак охватил душу. Жизнь показалась ему узкою клеткою, и часты и толсты были ее железные прутья, и только один незапертый выход имела она.
И тогда новый период начался в жизни Сергея Петровича. Он никуда не выходил из дому и бывал только в столовой, являясь туда почти к самому ее закрытию, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых студентов. День и ночь он лежал на постели или ходил, и соседи и хозяйка уже успели привыкнуть к однообразному звуку шагов, какой иногда слышится из тюремных камер: раз-два-три вперед и раз-два-три назад. На столе лежала книга, и, хотя она была закрыта и запылена, изнутри ее гремел спокойный, твердый и беспощадный голос:
«Если жизнь не удается тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть».
V
Раз нельзя победить – нужно умереть. И Сергей Петрович решил умереть и думал, что смерть его будет победою.
Мысль о смерти не была новою: она приходила к нему и раньше, как приходит и ко всякому человеку, у которого на пути много камней, но была так же бесплодна и бездеятельна, как и мечты о миллионе. Теперь же она явилась у Сергея Петровича, как решение, и смерть стала не желаемым, чего может и не быть, а неизбежным, таким, что произойдет непременно. Из клетки открывался выход, и, хотя он вел в неизвестность и мрак, это было безразлично для Сергея Петровича. Он смутно верил в новую жизнь и не страшился ее, так как только свободное я, которое не зависит ни от слабого мозга, ни от вялого сердца, унесет он с собою, а тело достанется в добычу земле, и пусть она творит из него новые мозг и сердце. И когда он ощутил в себе спокойную готовность умереть – впервые за всю свою жизнь он испытал глубокую и горделивую радость, радость раба, ломающего оковы.
– Я не трус, – сказал Сергей Петрович, и это была первая похвала, которую он от себя услышал и с гордостью принял.
Казалось бы, что мысль о смерти должна была уничтожить все заботы о жизни и о теле, уже более ни на что не нужном. Но с Сергеем Петровичем случилось обратное, и в последние дни своей жизни он снова стал тем педантично аккуратным и чистоплотным человеком, каким был раньше. Его удивило, как мог он столько времени оставлять в беспорядке свою комнату и стол, и прибрал его, разложил книги в том порядке, в каком они лежали всегда. Наверху он положил начатое для зачета сочинение – впоследствии оно перешло к Новикову, а особо «Так сказал Заратустра». Он даже не раскрыл Ницше и был совершенно равнодушен к книге, которую, по-видимому, не дочитал, так как карандашные отметки на полях идут только до половины третьей части. Быть может, он боялся, что найдет там что-нибудь новое и неожиданное, и оно разрушит всю его мучительную и долгую работу, оставившую впечатление яркого и страшного сна.
Потом Сергей Петрович сходил в Центральные бани, с наслаждением плавал в холодном бассейне и, встретив на улице товарища-студента, зашел с ним в портерную «к немцу», где выпил бутылку пива. Дома, порозовевший, чистый, в белой полотняной рубашке, он долго сидел за чаем с малиновым вареньем, потом попросил у хозяйки иголку и стал чинить свою форменную тужурку. Она была уже старая и узкая и постоянно рвалась под мышками, и Сергею Петровичу уже не раз приходилось чинить ее. Его толстые и неловкие пальцы с трудом ловили маленькую иголку, терявшуюся в гнилом сером сукне. Несколько дней Сергей Петрович посвятил на приготовление цианистого кали и, когда яд был готов, с удовольствием посмотрел на маленький пузырек, думая не о смерти, которая заключается в нем, а об успешно выполненной работе. Хозяйка, маленькая, черненькая женщина, бывшая содержанка, по-видимому, что-нибудь подозревала, потому что очень обрадовалась, когда Сергей Петрович обнаружил признаки возвращения к обычной трудовой жизни. Она пришла в его комнату и долго болтала на ту тему, как скверно действует на молодых людей одиночество, и рассказала об одном своем знакомом, который был околоточным надзирателем и имел доходы, но от мрачного своего характера стал пить водку и попал на Хитровку, где теперь пишет за рюмку водки прошения и письма. Эту историю об околоточном надзирателе она рассказывала впоследствии всем приходившим студентам и добавляла, что уже тогда она заметила сходство в судьбе знакомого и Сергея Петровича.
– Заходите ко мне чайку попить, – приглашала она Сергея Петровича, без всякой, однако, задней мысли. – Да к товарищам бы прошлись, а то что это: ни к вам кто-нибудь, ни вы никуда.
Сергей Петрович последовал ее совету и обошел почти всех своих товарищей, но нигде подолгу не оставался.
Впоследствии студенты уверяли, что начавшееся безумие Сергея Петровича уже ясно обнаруживалось, и удивлялись, как они тогда же не заметили его. Обычно молчаливый и застенчивый даже со своими, Сергей Петрович на этот раз болтал о всяких пустяках, а о Новикове вспоминал и говорил, как равный, и даже упрекнул его в поверхностности. При этом Сергей Петрович был весел и часто смеялся. Один молоденький студент передавал, что Сергей Петрович даже пел, но в этом уже все заметили преувеличение. Но все единогласно находили, что странность какая-то в Сергее Петровиче, несомненно, существовала, и не заметили ее тогда же только потому, что вообще на Сергея Петровича внимания обращали мало. И по поводу этого недостатка внимания некоторые, особенно резко осуждавшие равнодушие и эгоистичность товарищей, возбудили интересный вопрос: возможно ли было спасение для Сергея Петровича в этот решительный момент его жизни? И находили, что спасение было вполне возможно, но не воздействием на него другого – сильного – ума, а влиянием близкого человека, матери или женщины, которая любила бы его. Полагали, что все эти дни Сергей Петрович находился в состоянии умственной тупости, схожей с гипнотическим сном, когда над волею безраздельно господствует своя или чужая идея. Ее нельзя было ослабить рассуждениями, но Сергея Петровича могла разбудить любовь. Крик матери, идущий от ее сердца, вид лица, которое так дорого и мило и на котором с детства знакома каждая морщинка, ее слезы, которые невыносимо видеть даже огрубевшему человеку, – все это могло бы призвать Сергея Петровича к сознанию действительности. Человек добрый и честный, он не осмелился бы внести смерть в материнское сердце и остался бы жить, если не для себя, то для других, любящих его. Многих малодушных, уже решавшихся на самоубийство, удерживало на земле сознание, что они нужны для любящих их, и они долго еще жили, укрепляясь в мысли, что более храбрости требуется для жизни, нежели для смерти. А еще более бывало таких, которые забывали причины, побудившие их на самоубийство, и даже жалели, что жизнь так коротка.







