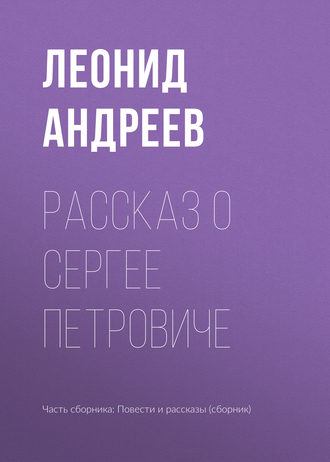
Леонид Андреев
Рассказ о Сергее Петровиче
По окончании университета Сергей Петрович намеревался поступить в акцизное ведомство, и, сколько он теперь ни думал, не мог понять, какое добро создаст он в должности акцизного чиновника. Он уже представлял себя, каким он будет честным, исполнительным, трудолюбивым. Он видел, как с медлительною и строгою постепенностью движется он по лестнице повышений и, достигнув средней ступеньки, останавливается, разбитый годами, нуждою и болезнями. Он понимал, что заслуги его перед жестокостями жизни будут оценены, и он будет праздновать свой тридцатилетний юбилей, как недавно праздновал его отец. На юбилее будут говориться речи, и он будет слушать их и плакать от умиления, как плакал его отец, и целоваться с такими же, как и он, старенькими, седенькими, изгрызанными жизнью бывшими и будущими юбилярами. Потом он умрет с мыслью, что оставляет после себя десяток таких же детей, каким он был сам, и в «Смоленском вестнике» будет напечатано коротенькое жизнеописание, в конце которого будет сказано, что умер полезный и честный работник. И Сергею Петровичу кажется, что эта посмертная похвала горька и больна, как удар бичом по живому обнаженному мясу. И больна она потому, что люди, желая сказать приятную неправду, сказали обидную и неоспоримую истину. И Сергей Петрович думает, что, если бы люди всегда понимали то, что говорит их язык, они не осмелились бы говорить о полезности и оскорблять уже оскорбленных.
Не сразу понял Сергей Петрович, в чем заключается его полезность, и долго ворочался и содрогался его мозг, подавленный непосильной работой. Но рассеивался туман под яркими лучами сверхчеловека, и то, что было неразрешимою загадкою, становилось простым и ясным. Он был полезен, и полезен многими своими свойствами. Он был полезен для рынка, как то безыменное «некто», которое покупает калоши, сахар, керосин и в массе своей создает дворцы для сильных земли; он был полезен для статистики и истории, как та безыменная единица, которая рождается и умирает и на которой изучают законы народонаселения; он был полезен и для прогресса, так как имел желудок и зябкое тело, заставлявшее гудеть тысячи колес и станков. И чем больше ходил Сергей Петрович по улицам и смотрел вокруг себя и за собою, тем очевиднее становилась для него его полезность. И сперва он заинтересовался ею, как открытием, и с новым чувством любопытства смотрел на богатые дома и роскошные экипажи и нарочно ездил лишний раз на конке, чтобы принести кому-то пользу своим пятачком, но скоро его стало раздражать сознание, что он не может сделать шагу, чтобы не оказаться кому-нибудь полезным, так как полезность его находится вне его воли.
И тогда он открыл в себе еще одну полезность, и она была самою горькою и обидною из всех и заставляла краснеть от стыда и боли. Это была полезность трупа, на котором изучают законы жизни и смерти, или илота, напоенного для того, чтобы другие видели, как дурно пить. Иногда ночью, в этот период душевного мятежа, Сергей Петрович представлял себе книги, которые пишутся о нем или о таких, как он. Он ясно видел печатные страницы, много печатных страниц, и свое имя на них. Он видел людей, которые пишут эти книги и на нем, на Сергее Петровиче, создают для себя богатство, счастье и славу. Одни рассказывают о том, какой он был жалкий, никуда не годный и никому не нужный, они не смеются и не издеваются над ним, – нет, они стараются изобразить его горе так жалко, чтобы люди плакали, а радость так, чтобы смеялись. С наивным эгоизмом сытых и сильных людей, которые говорят с такими же сильными, они стараются показать, что и в таких существах, как Сергей Петрович, есть кое-что человеческое; усиленно и горячо доказывают, что им бывает больно, когда бьют, и приятно, когда ласкают. И если у пишущих есть талант, и им удается показать то, что они хотели, им ставят памятники, подножием которых является как будто бы гранит, а в действительности – бесчисленные Сергеи Петровичи. Другие тоже сожалеют о Сергее Петровиче, но говорят о нем по рассказанному первыми и старательно обсуждают, откуда берутся такие, как он, и куда деваются, и учат, как нужно поступать, чтобы вперед не было таких.
Для капиталиста полезен, как родник его богатства, для писателя – как ступенька к памятнику, для ученого – как величина, приближающая его к познанию истины, для читателя – как объект для упражнения в хороших чувствах, – вот полезность, которую нашел в себе Сергей Петрович. И всю его душу охватил стыд и глухой гнев человека, который долго не понимал, что над ним смеются, и, обернувшись, увидел оскаленные зубы и протянутые пальцы. Жизнь, с которой он так долго мирился, как с фактом, взглянула ему в лицо своими глубокими очами, холодными, серьезными и до ужаса непонятными в своей строгой простоте. Все то, что до сих пор смутно бродило в нем и проявлялось в неясных грезах и тупой тоске, заговорило громко и властно. Его я, то, которое он считал единственно истинным и независимым ни от слабого мозга, ни от вялого сердца, возмутилось в нем и потребовало всего, на что оно имело право.
– Я не хочу быть немым материалом для счастья других: я сам хочу быть счастливым, сильным и свободным, и имею на это право, – выговорил Сергей Петрович затаенную мысль, которая бродит во многих головах и много голов делает несчастными, но выговаривается так редко и с таким трудом.
И в тот момент, когда он впервые произнес эту ясную и точную фразу, он понял, что произносит приговор над тем, что называется Сергеем Петровичем и что никогда не может быть ни сильным, ни свободным. И он восстал против обезличившей его природы, восстал, как раб, которому цепи натерли кровавые язвы на теле, но который долго не сознавал унизительности бесправного рабства и покорно сгибал спину под бичом надсмотрщика. Это было чувство лошади, которой силою чуда даровано человеческое сознание и ум в тот самый миг, когда кнут полосует ее спину, и у нее нет ни голоса, ни силы на сопротивление. И чем дольше, сильнее и безжалостнее был гнет, тем яростнее был гнев восставшего.
В это именно время Новиков получил от Сергея Петровича первое письмо, очень большое и мало понятное, так как Сергей Петрович совершенно не был в силах облечь в форму мыслей и слов все то, что он видел так ясно и хорошо. И Новиков не ответил на письмо, так как не любил переписки и был сильно занят пьянством, книгами и уроками по языкам. Одному из своих приятелей, которого он водил за собою по трактирам, он рассказал, однако, о Сергее Петровиче, о письме и о Ницше, и смеялся над Ницше, который так любил сильных, а делается проповедником для нищих духом и слабых.
Первым последствием возмущения был возврат Сергея Петровича к своим полузабытым и наивным мечтам. Но он не узнал их – так изменило их сознание права на счастье. И, отчаявшись в себе как в человеке, Сергей Петрович задумался над тем, мог ли бы он стать счастливым и при этих условиях. Счастье ведь так обширно и многогранно; лишенный возможности быть счастливым в одном, найдет свое счастье в другом. И ответ, который нашел для себя Сергей Петрович, принудил его восстать против людей, как он уже возмутился против природы.
IV
Жил Сергей Петрович недалеко от комитетской столовой в большом четырехэтажном доме, снизу доверху населенном квартирными хозяйками и студентами. У него была маленькая, но чистенькая комнатка, и соседи его, студенты, оказались народом тихим и непьющим, так что одинаково удобно было заниматься и думать, и если существовало что неприятное, так это постоянный чад из кухни по утрам. Но заниматься Сергей Петрович бросил, и половину суток комната стояла пустая и темная.
Ходил он очень много, без устали, и длинную его фигуру в выцветшем картузе можно было встретить на всех улицах Москвы. В один морозный, но солнечный день он пробрался даже на Воробьевы горы и оттуда долго смотрел на Москву, окутанную розовым туманом и дымом, и сверкающую пелену реки и огородов. На ходу легче было думать, да и то, что он видел, облегчало работу мысли, как рисунок к тексту облегчает его понимание для слабых умов. Подобно хозяину, который сознал свое разорение и в последний раз обходит свое имение, подводя печальные итоги, подводил свои итоги и Сергей Петрович, и они были так же печальны. Все виденное говорило ему, что и для него возможно было бы относительное счастье, но что в то же время он никогда не получит его, никогда.
Только одно могло дать счастье Сергею Петровичу; обладание тем, что он любил в жизни, и избавление от того, что он ненавидел. Он не верил Гартману, который всегда был сыт и утверждал, что обладание желаемым только разочаровывает, – и думал, как Новиков, что философия пессимизма создана для утешения и обмана людей, которые лишены всего, что имеют другие. И он был уверен, что сумеет стать счастливым, если ему дадут деньги, эту странствующую по миру свободу, которую рабы чеканят для господ.
Сергей Петрович был трудолюбив, но не любил труда и страдал под его тяжестью, так как никогда его труд не был таким, чтобы давать наслаждение. В гимназии его трудом было учение вещей, которые были неинтересны и чужды ему, а иногда шли против его рассудка и совести, и тогда труд становился мучительным. В университете труд был легче, спокойнее и разумнее, но также не давал наслаждения холодному уму, а уроки, которые случалось иметь Сергею Петровичу, представляли обратную сторону гимназических и были так же мучительны. И будущий его труд как акцизного чиновника сулил ту же безрадостность и покорную скуку. Только летом, у себя в Смоленске, Сергей Петрович отдыхал за простою и грубою работою: столярничал, делал для маленьких братьев деревянные ружья и стрелы, чинил в саду заборы и скамейки и копал гряды, выворачивая блестящим скребком ноздреватую глянцевитую землю. И это было весело и радостно, но не было тем трудом, к которому предназначило его рождение от отца-чиновника и образование. Другие люди, страдающие от несоответствия между способностями и трудом, иногда ломают рамки и идут, куда хотят, – в рабочие, в пахари, в бродяги. Но то люди сильные и смелые, каких немного на земле, а Сергей Петрович чувствовал себя слабым, робким и управляемым чьею-то чужою волей, как паровоз, которого только катастрофа может свести с рельсов, проложенных неизвестными руками. И не только сделать, но даже и вообразить он не мог, как это он бросит приличный костюм, квартиру, лекции и станет оборванный шататься по дорогам или идти за сохой. И первое, что могло бы приблизить его к счастью, – это свобода от чуждого и неприятного труда. И он имел право на свободу, так как видел людей, как и он, рожденных от женщины, как и он, имеющих нервы и мозг, которые не трудились совсем и отдавались только тем занятиям, которые радуют их.
«А что имеют другие, на то имею право и я», – думал Сергей Петрович в этот период возмущения против природы и людей.
И для него нашлись бы такие занятия, которые радуют. Главным из них было бы познание природы. Не проникновение в ее глубочайшие тайны, – оно требовало ума, – а непосредственное познание ее глазами, обонянием, всеми чувствами. Он любил живую природу нежною и даже страстною, но глубоко скрытою любовью, о которой подозревал один Новиков. Какой-нибудь росточек травы весною, белый ствол березы, выходящий из мягкой пахучей земли, черные, тоненькие сучки, прилипшие к ее мягкой груди, приковывали его глаза и радовали сердце. Он не понимал, за что он так любит эту черную землю, давшую ему столько горя, но когда весною он видел первый кусок ее, освободившийся от холодного и мертвого снега и словно вздыхающий под солнцем, – ему хотелось поцеловать его долгим и нежным поцелуем, каким целуют любимую женщину. И, обреченный всю жизнь проводить в узкой четырехугольной коробке, на пыльных грохочущих улицах, под грязным городским небом, он завидовал бродягам, сон которых охраняют звезды и которые знают и видят так много. А он не видел в своей жизни и не увидит ничего, кроме березы, травки, неглубоких речек да невысоких бугров. Ему приходилось читать красивые и, вероятно, похожие описания моря и гор, но слабое воображение его не могло создать живых образов. И ему хотелось своими глазами убедиться – правда ли, что море так глубоко и бесконечно, что оно голубое, или зеленое, или даже красное, что по нему ходят высокие валы, а над ним по синему небу бегут белые облака или черные, страшные тучи. И правда ли, что горы так высоки, отвесны и лесисты, и между ними синеют туманные ущелья, а под самым зеленым небом сверкают снежные вершины.







