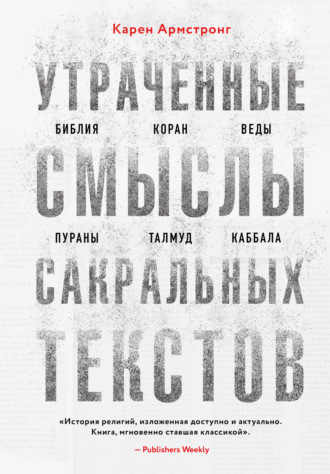
Карен Армстронг
Утраченные смыслы сакральных текстов. Библия, Коран, Веды, Пураны, Талмуд, Каббала
* * *
Китайцев мы оставили на пороге больших перемен. Правители государств на периферии Великой Равнины – Ци, Чу и Чжин – стремились расширить свои территории, поскольку при аграрной экономике единственный способ сделать государство богаче и сильнее – приобрести больше пахотной земли. Помимо расширения своих владений в сторону «варварских» территорий, эти амбициозные правители положили глаз и на небольшие княжества в центре Великой Равнины. К умирающей династии Чжоу они никакой лояльности не питали – некоторые из них уже начали именовать «царями» себя; не имели и ни малейшего желания подражать Яо и Шуню, «мудрым царям», в незапамятные времена принесшим мир всему миру благодаря тому, что им удалось сопрячь свою волю с Путем Неба. Они больше не почитали ни царей Вэня и Ву, ни Князя Чжоу, не было у них времени и на ли — обряды, пропагандирующие этику «уступчивости» (жан), самоуничижения и самообладания как главных добродетелей, удерживающих от распада империю Чжоу.
Таким образом, небольшие государства Великой Равнины жили под постоянной угрозой уничтожения. В прежние времена даже сражения превращались в церемонные ритуалы; теперь же военная жестокость дошла до того, что жители княжества Сун во время продолжительной осады вынуждены были пожирать своих детей. В некоторых княжествах у аристократии развился аппетит к роскоши, фатально подрывающий экономику. В результате мелкопоместное дворянство разорялось, и все больше приближенных аристократии, потеряв все, вынуждены были переселяться из привилегированных городских анклавов в сельскую местность, к «малым сим».
Для консервативных ученых мужей это был, разумеется, не просто политический и экономический кризис: беззастенчивый эгоизм аристократии нарушал Путь Неба, закон Природы, правящий вселенной. Один жу, глубоко возмущенный всем происходящим, решил удалиться от двора и жить частной жизнью. Кун Цю (551–479 гг. до н. э.) был обедневшим мелкопоместным дворянином. Родители его происходили из знатных домов княжества Сун, но были вынуждены эмигрировать в княжество Лю, где юный Кун вырос в обстановке «благородной нищеты». Он надеялся на какую-нибудь высокую должность, но, как видно, оказался слишком честен, чтобы преуспевать при дворе: в разных княжествах ему удавалось занимать лишь самые скромные посты. В возрасте шестидесяти восьми лет он удалился на покой и остаток жизни посвятил преподаванию, создав одну из первых философских школ, возникших в эту переломную эпоху. Эти школы держались в стороне от раздираемых борьбой и внутренними противоречиями княжеств и предлагали альтернативные модели устройства общества и поведения человека. В школе учитель становился «правителем» для своих учеников: он излагал свои учения устно, а ученики их записывали в надежде, что так эти учения дойдут до более широкой аудитории и до будущих поколений[405].
Ученики Кун Цю называли его Кун-фу-цзы («наш учитель Кун»), так что на Западе его именуют Конфуцием. Ученики его были уже немолоды – иные из них занимали важные правительственные посты – и именно они начали собирать антологию коротких афоризмов, приписываемых Конфуцию, которая постепенно превратилась в «Лунь юй» (или «Изречения»), одно из важнейших писаний Китая. Прежде считалось, что изречения были собраны в единую книгу вскоре после смерти Конфуция; однако теперь полагают, что этот текст развивался и дополнялся в течение нескольких столетий, прежде чем обрел свою окончательную форму. Как видим, конфуцианская традиция не цеплялась рабски за ipsissima verba [точные слова. – Прим. пер.] Учителя, а развивала его идеи и применяла их к вызовам времени. «Изречения» не совсем похожи на то, что называем «книгой» мы. Китайские тексты по-прежнему писались на полосах шелка или на бамбуковых дощечках, и напоминали скорее папку, в которую легко добавить что-то новое. Текст «Изречений» прошел через множество рук на протяжении нескольких поколений, по мере того, как различные конфуцианские школы сохраняли и развивали различные максимы, отражающие их нравственное учение. В сохранившемся классическом тексте мы видим, как эти различные направления соперничают друг с другом. В некоторых отрывках видно, как Учитель выделяет тех или иных учеников, называя их особенно восприимчивыми[406]. В других мы читаем, как несколько учеников задают Конфуцию один и тот же вопрос – например о значении почитания родителей – и получают разные ответы[407]. Таким образом, никакого «ортодоксального конфуцианства» не существует: вместо него мы находим разные точки зрения, демократически сосуществующие бок о бок.
Строго говоря, Учитель не был автором этой книги. Настоящий автор «Изречений», молчаливо записывавший беседы Конфуция, остался невидимым и неизвестным; Конфуций был «написан», как персонаж романа, и теперь известен нам лишь по рассказам учеников, которые, несомненно, приписывали ему и собственные идеи. Еще более ста лет пройдет, прежде чем учитель впервые начнет сам записывать собственные мысли; пока что об учителях пишут другие люди, и учитель становится почвой, на которой его последователи выращивают собственные теории. Поскольку единого и постоянного голоса у Конфуция нет, дальше мы увидим, что и сам он станет объектом познания и истолкования: читатели будут стараться разыскать под слоем противоречивых на вид речений и указаний твердые принципы «конфуцианства»[408]. Почти не признанный при жизни, Конфуций сделался таинственной, загадочной фигурой: и сам он, и его учения решительно ускользали от четких определений и официальных учений, бросая вызов нашему представлению о религиозной традиции.
«Изречения» начинаются с вопроса Конфуция своим ученикам:
Учиться и иметь случай исполнять то, чему научились – не довольно ли этого? Когда друзья приезжают издалека – это ли не радость? Быть терпеливым, даже когда тебя не понимают – это ли не признак благородного человека?[409]
Вокруг Конфуция сложился круг друзей: обучение (сюэ) было здесь не индивидуальным, а общим делом, и определенно не имело своей целью абстрактный поиск истины. Цель была в том, чтобы «исполнять то, чему научились», и овладение конфуцианским знанием мыслилось неотделимым от глубокого личного преображения. Любимым учеником Конфуция был Янь Ху, человек скромного происхождения с наклонностью к мистике. Однажды Конфуций сказал, что Янь Ху – единственный член его школы, поистине любящий «учение»: не потому, что он овладел набором аксиом и правил, а потому, что изменилось его поведение по отношению к другим. Он записывал свои промахи, тщательно их исправлял, и поведение его улучшалось день ото дня: «Он не изливал свой гнев на ни в чем не повинных и не повторял одну ошибку дважды»[410]. Другому своему ученику, живому и увлекающемуся Цзы-гуну, Конфуций сказал однажды: кто познал учение, тот живет так, чтобы ни об одном своем поступке не пришлось сожалеть[411]. Как пояснял еще один ученик, Жэн-цзы, обучение у Конфуция сопровождалось постоянным и тщательным критическим разбором не внутренних движений души, а своего поведения с окружающими[412]:
Каждый день я задаю себе три вопроса: в том, что делал я сегодня ради других, не жалел ли сил? Когда общался с друзьями, каждому ли моему слову можно было верить? Не передавал ли я другим того, что сперва не проверил на себе?[413]
Ученики Конфуция изучали классические тексты – «Документы», «Песнопения», «Ритуалы» и «Музыку»[414] – но изучение этих книг было неотделимо от постоянных «практических занятий» по доброте и благоразумию в повседневной жизни. А поскольку доброту и благоразумие следовало проявлять к другим, обучение никак не могло быть индивидуальным. «Чтобы укрепить себя, надо попробовать укрепить другого, – объяснял Конфуций. – Чтобы усилить себя, надо попробовать усилить другого»[415]. Такое творческое партнерство было ключевым элементом обучения, ибо суть его заключалась в том, чтобы превзойти свое эго. Целью был экстазис, «выход из себя» – но не в виде драматических экстатических видений, как у Иезекииля, а в форме вежливости и сострадания. Пока чжун-цзы не начинал всем сердцем откликаться на нужды ближних, он оставался сосредоточен на себе, замкнут в собственном тесном и хрупком мирке[416].
Таким образом, все изучение писания было посвящено жэнь — слово, которому Конфуций отказывался дать определение, поскольку его истинное значение не удавалось выразить понятными категориями того времени[417]. Единственный способ понять жэнь – практиковать его, доведя до совершенства, по примеру Яо и Шуня. В эпоху Чжоу жэнь («благородство») отличало чжун-цзы от простонародья, но Конфуций придал этому понятию нравственное значение: он верил, что жэнь есть «Сила Пути» (дао-дэ), позволившая Мудрым Царям править без насилия, поскольку они действовали в согласии с законами Неба или Природы. «Как нам достичь жэнь?» – спросил Янь Ху. «Ке чжи фу ли», – отвечал Конфуций. «Согните свое эго и подчинитесь ли»[418].
Готовность уступать другим не рождается в нас от природы; то же можно сказать о почтении и постоянном памятовании о нуждах ближних. Конфуций понимал, что одни лишь размышления о важности самоумаления, почтения и благоразумия не помогут смирить наши эгоистические порывы – и, как и современные нейрофизиологи, знал, что телесные жесты и упражнения могут многому нас научить. Стилизованная жестикуляция ли позволяла чжун-цзы освоить навык «уступать» другим и ввести его в привычку. Вместо гордых и агрессивных поз и жестов внешняя почтительность, выраженная в позах и жестах ли, помогала усвоить и внутреннее отношение внимания и уважения к окружающим. Обрядовость поднимала обычные биологические действия на иной уровень. Ритуалы подтверждали, что мы ведем себя достойно, и наделяли повседневные дела церемониальной торжественностью, заставляющей человека ощутить святость жизни. Реформированный ритуализм, из которого исключили сосредоточенность на статусе и положении, восстанавливал доброжелательность и достоинство человеческого общения. Обряд наделял святостью не только того, кто его исполнял, но и тех, с кем он имел дело. Конфуций понимал психологическую истину, лежащую за древним верованием, что ритуалы сыновней почтительности создают божественный шень, позволяющий смертному человеку стать божественным предком.
Ли, закон Неба, учил людей иметь дело друг с другом как с равными, как с партнерами по общей церемонии, в которой личность играет второстепенную роль в сравнении с гармонией целого. Поэтому ритуал был не просто средством самовоспитания: он имел и политическое значение. Когда кто-то из учеников спросил Конфуция, как применить жэнь к политической жизни, тот ответил:
В чужой стране ведите себя так, словно принимаете важного гостя. Оказывая услуги простым людям, ведите себя так, словно совершаете важное жертвоприношение. Не делайте другим то, чего не желаете себе. Так вы освободитесь от своеволия, будь то в государстве или в благородном семействе[419].
Для конфуцианцев личное самовоспитание было неразрывно связано с исправлением общества. Конфуций верил, что ли снова сделает Китай гуманной страной. «Если бы правитель хоть на один день смог согнуть свое эго и подчиниться ли, – не раз говорил он, – все и вся под небом откликнулось бы на его доброту»[420].
Возможно, Конфуций первым сформулировал Золотое Правило в чеканной, запоминающейся формуле: «Не делай другим того, чего себе не желаешь». Когда Цзы-гун спросил его: «Можно ли сформулировать главное правило жизни одним словом?», Конфуций ответил: это слово – взаимность (шу)[421]. «Путь Учителя состоит в том, чтобы делать для других самое лучшее, – объяснял Жэн-цзы, – и использовать себя как меру в определении того, что нужно другим»[422]. Вместо того, чтобы ставить себя на какое-то особое, привилегированное место, загляни внутрь себя, обрати внимание на то, что тебя расстраивает – и воздерживайся от того, чтобы причинять такую же боль другим. Чтобы начать поистине преобразовывать мир, такой альтруизм должен войти в привычку и соблюдаться не только, когда тебе это удобно, но «все дни и каждый день»[423]. Звучит несложно; однако, как признавал Янь Ху, подчинить себе непокорное эго – тяжелая борьба длиною в жизнь:
Чем больше смотрю я на эту цель, тем выше она кажется; чем более в нее погружаюсь, тем она сложнее. То она мелькает впереди, то вдруг вижу ее позади себя. Учитель умело ведет меня вперед шаг за шагом. Он расширяет мой кругозор знаниями и связывает волю ритуалами, так что я не смог бы все бросить, даже если бы захотел. Я истощаю все свои силы, и все же кажется, что-то ускользает и продолжает маячить впереди. И я всем сердцем желаю последовать за ним – но не вижу дороги![424]
Янь Ху описывал опыт трансцендентного: жэнь – не что-то такое, что можно «получить», это скорее то, что ты сам раздаешь «все дни и каждый день». Жэнь и есть та трансцендентность, которую ищешь, ибо жизнь в эмпатии, самоумаление и преодоление своего «я» выводит тебя за собственные пределы. Эмпатия и сострадание, как мы уже видели, исходят из правого полушария мозга, видящего глубинную взаимосвязь всех вещей. Пытаясь реализовать этот идеал «все дни и каждый день», Янь Ху порой замечал проблески священной реальности, одновременно имманентной и трансцендентной, исходящей изнутри, но также и присутствующей вовне, «маячащей впереди». Никакого мгновенного «перерождения» у конфуцианцев не случалось. Сам Учитель говорил, что не менее пятидесяти лет прошло, прежде чем ли и добродетели шу и жэнь сделались для него второй природой[425].
В возрасте пятнадцати лет Конфуций начал свое образование с изучения «Документов», «Песнопений», «Ритуалов» и «Музыки». Конфуций всегда настаивал, что он не оригинальный мыслитель, а полностью полагается на учения прошлого: «Я передаю, а не вношу новое; я доверяю путям древности и люблю их»[426]. Изучение «Документов», подкрепленное практикой «Ритуалов», еще в молодости убедило его, что Яо и Шунь создали идеальный нравственно-политический строй. А если Великий Мир был достигнут однажды, при Яо – значит, его можно достичь снова. История – не антикварные экзерсисы, а призыв к политическому действию в смутном настоящем. Когда Конфуций, утомленный эгоизмом и насилием, царящим в княжествах Великой Равнины, удалился от двора, он был убежден, что «переформатирование» Китая сможет осуществить только образованная элита, и только если примет эти древние тексты как прямое руководство к действию в общественной жизни. В прошлом китайские аристократы любили цитировать «Песнопения» для защиты собственных интересов; но в «Изречениях» мы видим, как Конфуций и его ученики наделяют «Песнопения» нравственным учением, которого в них изначально не было: они верили, что древние писания обращаются к моральным проблемам современности[427]. Конфуций основал свою школу, чтобы создать кадровый резерв хорошо подготовленных ученых, способных наставлять князей в Пути Яо и Шуня, дабы те могли исполнять Мандат Неба[428]. Но достичь этого было возможно лишь после их собственного преображения в результате долгого, напряженного, неустанного самовоспитания.
На вопрос о том, куда идти Китаю, простого ответа не было. Напротив, «Изречения» внушали китайцам разумный скепсис в отношении четких определений, абсолютных истин и нерушимых правил[429]. Конфуций редко отвечает на вопрос напрямую. Спрошенный о жэнь, он дает два разных ответа – один Янь Ху, второй Сюн Юну, – а потом дополняет их третьим определением, данным Сыма Ню[430]. На вопросы о том, как отличить чжун-цзы от «недостойного» (сяо жэнь), Конфуций каждый раз дает разные ответы[431]. На вопрос, что значит быть хорошим сыном, не предлагает никаких общих принципов – лишь несколько разрозненных примеров сыновней любви и почтительности[432]. Такое избегание определений и обобщений – отличительный знак китайских писаний. Западных читателей это порой раздражает, однако общая мысль «Изречений» вполне понятна: хорошо подвешенный язык и заученные наизусть определения мало что значат. Мир нуждается не в ловких ораторах, а в людях, культивирующих в себе человечность.
Есть знаменитое изречение Конфуция: «Я подумываю о том, чтобы бросить говорить». Когда Цзы-гун возразил: «Если бы ты не говорил, как передал бы свое учение нам, ученикам?», Конфуций ответил просто: Небо не говорит с людьми – но взгляните, как эффективна Природа: «А что говорит Небо? Однако времена года сменяют друг друга, и сотни вещей приходят в бытие. А что говорит Небо?»[433] Он верил, что Яо правил, как и Небо, без слов и преображал людей одной лишь силой своего примера: его добродетель сияла миру и распространялась на весь мир[434]. Жэнь – не просто внимательное и сострадательное отношение к окружающим. Это ясно видно по «концентрическим кругам сострадания» Яо. Семья – школа эмпатии, здесь мы учимся исполнять ли в повседневной заботе о родителях, братьях и сестрах. Но на этом нельзя останавливаться. Китайское писание требует от нас отбросить племенные инстинкты и мыслить глобально. Забота о семье расширяет сердце чжун-цзы, и он начинает ощущать эмпатию ко многим и многим: сперва к тем, кто его окружает, затем к стране, в которой живет и, наконец, ко всему миру[435].
* * *
Ритуалы ариев изначально предназначались для того, чтобы поддерживать богов в их задаче сохранения космического порядка (рта). В IX в. до н. э. арийские ритуалисты разработали концепцию Брахмана, предельной невыразимой реальности, сопрягающей вместе разрозненные силы вселенной. Но цель их обрядов постепенно начала меняться: теперь ритуалы уже не только удерживали вселенную от распада, но и обеспечивали их участникам жизнь после смерти. Считалось, что, всю жизнь безупречно исполняя обряды (карма), после смерти можно переродиться в мире богов. Однако люди сомневались в эффективности этой ритуализованной кармы, и в VI в. до н. э. начал складываться новый корпус писаний, обращенный к этим проблемам.
Эти писания носят собирательное название «Веданта», то есть «конец Вед», по двум причинам. Во-первых, они знаменовали собой окончание откровения (шрути, то есть «услышанного»), полученного риши и зафиксированного и расширенного в Ведах. После Веданты откровения прекратились, о них можно было только вспоминать (смрти). Впрочем, само это «окончание» заняло немало времени. Существуют почти 250 Упанишад, как именуются эти новые писания. Двенадцать «классических» Упанишад были составлены между VI и I вв. до н. э., а новые Упанишады продолжали и продолжают появляться по сей день. Как видим, канон писания не всегда достигает полноты и «закрывается». Во-вторых, если понимать «конец» как «цель», то Упанишады, несомненно, являют «конец» ведических шрути, поскольку объясняют нам, что видели древние риши и о чем рассуждали «Брахманы». «Здесь суть самой сути, – говорит о себе одна ранняя Упанишада, – ибо суть – это Веды, а здесь суть Вед»[436]. «Конец» Вед невыразим, его нельзя ни определить, ни полностью закончить.
На Западе Упанишады иногда воспринимают как своего рода «протестантскую» рефлексию над ранним ведическим ритуализмом. Верно, что они нередко отметают древние ритуальные практики; однако по сути своей Упанишады – не опровержение, а продолжение и углубление древней ритуальной науки. Первые две Упанишады, по-видимому, сложились в течение VI в. до н. э., в период интенсивных социально-экономических перемен в долине Ганга. «Чхандогья Упанишада» возникла в регионе Куру-Панчала, а «Брихадараньяка Упанишада» – в царстве Видеха, приграничном государстве на самой восточной точке арийской экспансии. Здесь авторы встречали людей из самых разных традиций: арийских поселенцев более ранних волн эмиграции, иранские племена малла, ваджьи и шакья, а также коренных жителей Индии. Кроме того, настало время стремительной урбанизации: Чхандогья и Брихадараньяка почти не упоминают о сельском хозяйстве, но часто ссылаются на различные городские ремесла. Улучшение дорог теперь позволяло людям преодолевать большие расстояния, чтобы посоветоваться с новыми мудрецами. Начало размываться прежнее сословное деление: многие ученые дебаты, описанные в этих ранних Упанишадах, происходят при дворе раджи, что указывает на увеличение влияния кшатриев[437].
Эти две первые Упанишады представляют собой антологии более ранних писаний, собранные воедино редакторами и преподанные как наставления знаменитых учителей: Яджнавалкьи в случае Брихадараньяки и Уддалаки Аруни в случае Чхандогьи. Оба они были браминами; однако другие учителя, как, например, царь Аджаташастра, происходили из военного сословия кшатриев, что наводит некоторых ученых на мысль, что за созданием Упанишад стояли именно кшатрии. Однако более вероятно, что просто урбанизация привела к более тесному взаимодействию разных сословий. Новые учения все еще глубоко укоренены в жреческих аксиомах «Брахманов»[438]. Само слово «упанишада» часто переводится как «эзотерическое учение»: его этимология («упа-ни-шад» – «сидеть подле») указывает на некие тайны, которые мудрец передает нескольким особенно одаренным ученикам, сидящим у его ног. Впрочем, сейчас такое толкование считается недостоверным, поскольку древнейшее значение слова «упанишад» – «равенство», «подобие» или «соответствие»[439]. Из этого следует, что новые писания разрабатывали науку о «соответствиях» (бандхус), заложенную ритуалистами, которые культивировали чувство глубинного единства реальности, своими ритуалами связывая воедино небо и землю.
Это очевидно в Брихадараньяке, Упанишаде жрецов адварью, выполнявших ритуальные действия: она начинается с размышления над знаменитым «Жертвенным Конем», ритуалом плодородия, прославляющим власть раджи. В серии бандхус, производимых жрецами, конь уподобляется всему космосу: ноги его – времена года, плоть его – облака, грудь – восходящее солнце, а ржание – Вак («Речь»), само высшее божество[440]. А вот Чхандогья – Упанишада жрецов удгатр, так что она начинается с размышления над священной мантрой ОМ, которой удгатр начинали каждое свое песнопение. ОМ представляет квинтэссенцию реальности: земли, вод, растений и людей, глубочайшая сущность коей есть Вак[441]. Ведические жрецы давно уже учились размышлять над значением своих ритуалов, а задача жреца брахмана состояла в том, чтобы совершать все богослужение в уме. Теперь мудрецы Упанишад распространили это жреческое созерцание космоса и на исследование своего внутреннего мира, используя в поддержку своих открытий старые ведические тексты[442].
Итак, проект Упанишад представляет собой расширенные размышления над Ведическим писанием: мудрецы Упанишад пытались истолковать и применить к себе видения риши, пытавшихся описать реальность, лежащую за пределами языка. Для этих новых мудрецов боговдохновенные слова Ригведы стали «семенами», из которых вырастили новые идеи и переживания[443]. О первых риши рассказывали, что они видели и слышали эти истины, и поэтому описывали Брахмана в чувственных образах, именуя его «зародышем мира»[444] или «Господином творения»[445]. Однако мудрецы Упанишад верили, что откровение обращено более к сознанию, чем к чувствам, так что именовали его более абстрактно, атманом — неописуемой сутью реальности, пронизывающей все[446]. Наше знание атмана не имеет ничего общего с эмпирическим знанием, получаемым из чувственного восприятия; оно превосходит все привычные нам категории. Атман сразу и имманентен, и трансцендентен, и ни то ни другое, и не сочетание того и другого. Узреть его можно лишь в конце жизни, посвященной интенсивному обучению под руководством опытного наставника, который систематически заставляет ученика выходить за пределы привычного концептуального мышления, пока тот наконец не обретет другой модус сознания, более зависимый от правого полушария, в котором можно увидеть проблески трансцендентного единства всего сущего[447].
Эти новые риши сформировали новое представление о самости: они учили, что, поскольку все вещи суть Одно, атман, священная суть всего и вся, неотделим от бессмертного Брахмана, поддерживающего в бытии весь космос. Они вспоминали миф из «Брахманов», в котором Праджапати («Все») объединил созданный им хрупкий мир, спроецировав свой собственный атман, свое «я» или «внутреннюю сущность», на все свои творения, так что весь космос стал, по сути, божественным. Из этого следовало: если мы сможем проникнуть в глубину собственного бытия, то окажемся в «месте», где Брахман, предельная реальность, и атман, индивидуальная сущность человека, сливаются воедино. Это требовало от мудреца выхода за пределы тела, за пределы понятийного мышления и эмоций – туда, где, в самой сердцевине его бытия, таилось сокровенное «я», единое с Брахманом. Первые риши воплощали в себе священное Слово, которое «видели» и «слышали», но теперь мудрецы Упанишад пошли дальше. Они провозгласили: «Айам атма Брахман» – «Это Я есть Брахман»[448].
Но как получить доступ к этой сокровенной сути, которая, как объяснял Яджнавалкья, для нормального человеческого сознания недостижима?
Нельзя увидеть Видящего, который видит. Нельзя услышать Слышащего, который слышит. Нельзя помыслить Мыслящего, который мыслит. Нельзя воспринять Воспринимающего, который воспринимает. Я во Всем [Брахман] – вот твой атман[449].
Мистику требовалось долго учиться, как мы бы сказали, систематическому отрицанию категоризации и аналитических определений, свойственных повседневному мышлению. «Об этом атмане можно сказать лишь: «Ни то… ни то… [нети… нети], – настаивал Яджнавалкья. – Он непостижим, ибо его нельзя постичь. Нетленен, ибо не подлежит тлению… Он не связан, не дрожит в страхе, не терпит страданий»[450]. Со временем мистик начинает видеть проблески глубинного единства всех вещей и, следовательно, понимать, что человеческое Я неотделимо от божественного. Для обычной логики это непостижимо, поэтому вместо рациональных аргументов Упанишады предлагают нам рассказы о переживаниях и видениях, нарочито сложные для понимания изречения и загадки. Часто они описывают споры, кончающиеся тем, что один из спорящих просто умолкает – погружается в молчание брахмодья.
Итак, ключевой посыл Упанишад – в том, что человеческое Я само по себе божественно, абсолютно неотделимо от предельной реальности[451]. Монотеисты порой отмахиваются от этой мысли как от «обычного пантеизма»; но ведь то же чувство единства со всем сущим переживали и их собственные мистики. Немецкий мистик Майстер Экхарт (ок. 1260–1327) писал: «Есть в душе нечто, столь близкое Богу, что оно не нуждается в единении с Ним – оно уже с Ним едино». Если полностью реализовать это состояние, продолжал он, христианин «станет существом нетварным, непохожим ни на одно другое творение»[452]. Яджнавалкья тоже верил, что практики Упанишад способны превратить человека в бога. Он может стать той священной реальностью, которую ищет.
Старые ведические ритуалы стремились выстроить «я», которое сможет выжить в небесном мире, при помощи часто повторяемых ритуальных действий (карма): результат здесь достигался, так сказать, накоплением безупречно исполненных жертвоприношений. Однако Яджнавалкья верил, что наше Я – продукт всех наших действий, не только ритуальной кармы: сюда включалась и наша интеллектуальная деятельность, и желания, и порывы, и чувства влечения или ненависти. Человек, чьи желания прикованы к этому миру, после смерти и краткого пребывания на небесах вновь переродится на земле. Но тот, кто систематически ищет лишь свое бессмертное «я», свой атман, уже един с Брахманом – «Брахман он есть, и к Брахману идет» – и никогда больше не вернется в этот мир боли, скорби и смертности[453]. Так впервые мы слышим учение о карме применительно не к ритуальным действиям, а к физической и душевной жизни человека. В дальнейшем это учение станет для индийской духовности ключевым. Необходимо истребить из души все низменные желания, а достичь этого можно, лишь полностью изменив свою повседневную жизнь под пожизненным руководством гуру.
В Индии изучение писания всегда требовало присутствия учителя, способного преподать ученикам совершенно иной образ жизни, на котором они смогут «оторваться» от обычного чувственного восприятия и достичь нового, очищенного уровня сознания. Гуру не мог научить своего ученика тому, что есть атман: он лишь показывал путь к этому знанию, как своего рода повитуха, помогающая рождению нового человека[454]. Чтобы этого достичь, ученик должен был покинуть дом и поселиться вместе с учителем, собирать хворост для священного огня и поддерживать огонь, жить целомудренно и никому не причинять зла. Более того, знание достигалось не столько размышлениями, сколько физическими действиями: пением мантр, выполнением повседневной работы, участием в аскетических упражнениях под руководством гуру. Поскольку гуру «знал» свой атман, он был живым воплощением Брахмана, и, подражая его образу жизни – его целомудрию, его ахимсе («ненасилию»), его доброжелательности и уважению ко всем живым существам (в которых тоже воплощается Брахман) – ученик со временем осознавал, что Брахман в самом деле неотделим от его сокровеннейшего «я»[455].
Итак, учение Упанишад имеет смысл только в контексте его интенсивной передачи. Начиная с первых Упанишад, священные тексты в Индии часто принимали форму сутр – коротких чеканных афоризмов, предназначенных для передачи из уст в уста от гуру к ученику, а для постороннего непонятных[456]. Часто поучения принимали форму вопросов и ответов, призванных разрушить все рациональные и логические препятствия в сознании ученика и привести его к просветлению. Но все это было «не для всех». От ученика требовалась безмятежность духа и подготовка в виде долгого и трудного «предварительного этапа» – ежедневного выполнения тяжелой, грязной, рабской работы. То, что такое множество молодых мужчин (а в период ранних Упанишад иногда и женщин) готовы были пройти через это тяжкое испытание, свидетельствует о глубоко укорененной жажде преображения – неодолимой тяге к обожению – лежащей в основе религиозного поиска.
Вместе гуру и его ученик культивировали психологическое состояние, которое естественно для человеческой природы, однако его чрезвычайно трудно достичь. Появление Упанишад в Индии совпало с развитием телесных и психологических практик йоги, дававшей практикующим возможность извлечь свое «я» из мышления и таким образом осознать себя Брахманом. Атман часто переводят как «душа», однако он мыслился физическим образом, и ключевую роль в процессе преображения играло тело. Упанишады видели человеческое тело как «город Брахмана»[457], так что умение правильно дышать и правильно сидеть было для них не менее важно, чем медитации. Для инициации учеников гуру использовали различные методы. Яджнавалкья предлагал ученикам размышлять о своих снах – это настраивало их ум на внимание к бессознательному. В состоянии сна мы часто чувствуем себя свободнее и соприкасаемся с более глубинным «я», но нередко нам являются и кошмары, указывающие на боль и страх, которые мы в дневной жизни подавляем. Однако в глубоком сне, объясняет Яджнавалкья, мы достигаем единства сознания – предвестника окончательного освобождения, в котором адепт станет «спокоен, собран, терпелив и бесстрастен», поскольку осознает себя единым с Брахманом и «свободным от зла, свободным от порока, свободным от сомнений»[458].







